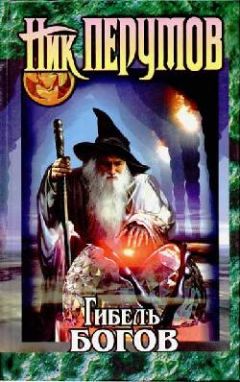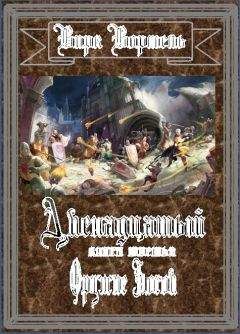Иван Жиркевич - Записки Ивана Степановича Жиркевича. 1789–1848
Заметив говорившего, я вошел в толпу и, взявши дерзкого за ворот, вывел вперед, приказав немедленно подать плетей, и тут же велел наказывать его. Несколько ударов он перенес с твердостью, потом стал просить помилования. Приостановив наказание, я спросил его, намерен ли он вперед в шапке стоять перед начальником. Он не отвечал, и я приказал возобновить наказание; три раза делал я ему один и тот же вопрос, и он все упрямился, но, видя, что и я тоже упрям в моем наказании, наконец дал обещание не только перед начальником, но даже при сотском и при десятском всегда ходить без шапки, и я повторил приказание, чтобы крестьяне шли по домам к себе.
Эти два внезапно сделанные примера так сильно подействовали, что когда через полчаса после этого приехавший из Люцина земский исправник Михаловский[538] явился ко мне, то объявил мне, что он верстах в двух встретил крестьян и они в голое ему кричали:
– Нет, батюшка! Сюда приехал не такой, как прежние. Поезжайте-ка туда: и вам достанется: нет, с этим шалить забудешь! – И Михаловский прибавил:
– Я уверяю вас, ваше превосходительство, что крестьяне это говорили нешуточно, и смело заверяю вас, что теперь уже неповиновения не будет!
Я пошел посетить арестантов; они в числе 78 содержались в двух огромных сараях, и около каждого из них поставлено было по шести часовых с заряженными ружьями. Вызвав их всех наружу, я выкликнул пятерых, поименованных особенно Домбровским в его рапорте к Дьякову, как замеченных лично в толпе врывавшихся в его квартиру. Этих приказал немедленно заковать и обрить им половину волос на голове и на бороде, а остальных немедленно отпустить домой. За этим я приказал исправнику, чтобы на другой день к утру, в 7 часов, из ближайших деревень приведены были ко мне одни только домохозяева; но пришлось объявить от меня строжайшее приказание, ежели я увижу хотя издали кого нетребованного, мужика или бабу, я велю непременно и больно наказать розгами; вместе с сим объявил я, чтобы к этому же сроку прибыли в Яноволь священники для приведения к присяге, православного и католического исповедания. К вечеру в Яноволь возвратился и Домбровский из Люцина и на расспросы мои утвердительно говорил:
– Сами вы удостоверитесь, ваше превосходительство, что упорство крестьян неодолимо и что нет других средств, как всю волость судить военным судом и по крайней мере десятого наказать из них.
Батальонному командиру я отдал приказание при квартире моей поставить караул из двенадцати человек, а часовых иметь днем одного, а ночью двух около дома. Прочих же солдат всех велел распустить по деревням, но по приводе крестьян в Яноволь иметь еще несколько человек, без артиллерии, и притом велел приготовить на случай надобности несколько пуков розог.
Поутру при моем выходе я нашел в зале уже чиновников всех, кроме Война-Куринского, в мундирах, двух священников, из которых я к православному подошел, по обычаю, к благословению; но сколько поразило меня: от него, как от винной бочки, несло уже вином, так что я решительно отскочил назад. Само по себе разумеется, что я разразился в моих о сем предмете замечаниях, и от католического священника тоже был слышен запах вина, но в малом размере. Исправник объявил мне, что с вечера отправлен был нарочный чиновник, за 40 верст, в Себеж за благочинным, и там его нашел он уже в нетрезвом виде, а потом по приезде на место на всю ночь он его оставил у ксендза, и, вероятно, там он еще, как называется по-русски, опохмелился. Ежели бы не настоятельная надобность в этом сановнике, я бы его тот же час отправил к архиерею, с приказанием поддержать в нем хмель, – что при пьяном его положении было бы вовсе не трудно, – а теперь криком моим я его настолько отрезвил, что ко времени присяги он был уже довольно в пристойном виде.
Когда исправник донес мне, что домохозяев приведено 37 человек, я велел им составить именной список и поставить их в две шеренги, а около них составить цепь из шести рядовых из караульных; сверх того приказал арестантов, накануне закованных, без шапок, провести мимо теперь собранных крестьян и объявить при этом, что их ведут к суду и что участь их сегодня же будет решена окончательно. Затем я сам вышел из покоев, окруженный большой свитой; обратясь к крестьянам, я сказал им:
– Вас долго и много увещевали, и все без успеха; я говорить много не люблю: слушайте мое приказание. При выборе старшин для себя вы должны все присягнуть; этого требует от вас Бог и государь. Я буду спрашивать поодиночке каждого из вас, намерен ли он присягнуть или нет. Другого ответа не надо: «да» или «нет». Кто скажет «да», тот сейчас же присягнет; кто скажет «нет» – пальцем не трону: тот будет судим по закону; вы видели преступников, – вот всем пример.
Окончив речь, я приказал исправнику по списку вызывать крестьян поодиночке вперед; первый вышедший на вопрос мой, будет ли он присягать, отвечал:
– Отчего же не присягнуть? Я не прочь, когда и другие станут тоже присягать.
– Я от тебя не требую рассказов, отвечай мне словом: «да» или «нет», – заметил я ему.
Он же опять повторил мне то же, т. е. что он тогда присягнет, когда будут присягать другие. Я приказал подать розги и велел наказывать его просто за упрямство. Ударов с пятьдесят выдержав, он стал просить о пощаде; приостановя наказание, я повторил, что требую коротких ответов «да» или «нет». Ежели он скажет и «нет», я наказывать более не стану, за этот ответ будут судить законы, но за упрямство возобновлю розги. Крестьянин опять стал ссылаться на согласие других, и я приказал снова сечь его за упрямство. Четыре раза начинали наказывать, и наконец уже он просто отвечал: да. Тут один из стоявших во второй шеренги закричал:
– Плетьми и розгами каждого можно заставить делать что хочешь!
Я вызвал выскочку вперед и тут же приказал сечь его. Ему не дали и десяти ударов, как он стал просить прощения и кричал:
– Я буду присягать без отговорки.
Я велел ему стать на свое место и объявил, что его наказывали за то, что он дозволил себе говорить, тогда как его еще не спрашивали; когда до него дойдет очередь, то и тогда он должен отвечать не более «да» или «нет». За лишние слова я не премину снова высечь. После этого до самого этого же крестьянина, который был выскочкой, каждый отвечал уже мне просто «да», но когда я обратился с вопросом уже к нему самому, он, приосанясь, громко закричал:
– Кладите голову на плаху, – присягать не хочу и не стану!
Нисколько не возвышая голоса, я обратился в исправнику:
– Прикажите заковать бунтовщика, обрить ему голову и сию же минуту отвести его к суду, как отвели уже прежде семерых.
Видя мое хладнокровие и решительность, сопротивник вдруг упал на колени и стал умаливать о помиловании. Я же, не обращая внимания на него, стал продолжать далее допросы; других сопротивников не нашлось. Принесли аналой, крест, Евангелие, и священник приблизился, чтобы читать форму присяги, я просил его, чтобы он прежде объяснил крестьянам всю важность того священнодействия, к которому они теперь приступают. Священник, едва еще опомнившийся от пьянства, смешался, оробел, и я принял на себя то, что поручал ему. Когда же присяга была прочитана, то прежде нежели допустить присягавших до креста и Св. Евангелия, я приказал самому священнику подать пример троекратного поклонения, а за ним последовал я сам и потом каждого крестьянина заставлял делать то же; решительно могу удостоверить, что эта формальность, которая может показаться мелочным действием, сильно подействовала на присягавших; я видел, как каждый из них с трепетом и заметным волнением выполнял приказание и, приложившись к кресту и Евангелию, опять успокаивался. Точно тот же порядок и постепенность, т. е. пример священника и лично мой, я удержал при присяге католиков, которых было около десяти человек. Когда присяга кончилась и я подошел опять к крестьянам благодарить их и поздравить, они мне в один голос отвечали: