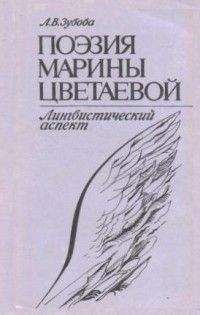Ирина Шевеленко - Литературный путь Цветаевой. Идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи
Бесконечно разнообразное творчество природы (об этом шла речь в статье «Поэты с историей и поэты без истории») и ограниченное, затрудненное и искаженное языковыми формами творчество поэта – чем может быть обусловлена нужда первого во втором? Именно интонационной резкостью поставленного вопроса Цветаева переводит старую романтическую тему на новый модернистский язык. В русской поэзии эта романтическая тема была в свое время ярко воплощена в знаменитом «Невыразимом» (1819) В. Жуковского:
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью…
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
<…>
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие создателя в созданье —
Какой для них язык?.. Горé душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит532.
Для Жуковского тема неподражаемости природного (божественного) творения оказывалась поводом воспеть это творение еще раз. В самом отказе художника от состязания с природой был для него источник поэтического вдохновения. Цветаева эту романтическую тему превращала в экзистенциальную: зачем существую я, поэт, если природное (божественное) творение совершенно и полно без меня? Это был тот же вопрос о «вакансии поэта», который с такой остротой встал в начале 1930‐х годов перед Пастернаком, только ставился он Цветаевой в ином идейном регистре. На стихотворение Пастернака «Другу» («Борису Пильняку») она, как мы помним, откликалась в статье «Поэты с историей и поэты без истории», хотя и не процитировала там его последнего четверостишия:
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста533.
Если Пастернак проблему «вакансии поэта» увидел как проблему исторического поведения, то Цветаева увидела ее как проблему внеисторическую, онтологическую. Это не значит, конечно, что конкретный исторический опыт не имел отношения к самому факту постановки ею этой проблемы.
Вопрос «Чтó нужно кусту от меня?» – вариант того вечного вопроса о смысле своего существования в мире, на который без конца отвечает художник. Этот вопрос существует и в других вариантах: что нужно от меня истории, обществу, родине, классу, современнику, потомку, человеку вообще? Выбор Цветаевой своего варианта вопроса есть уже, в значительной мере, ее ответ на собственное бытие. Этот выбор логически вытекает из всей философии зрелой Цветаевой: поэт, вечный и единственный, может интересоваться лишь своим местом в онтологии мира. Природа физически репрезентирует в этом мире вечное божественное начало; это то самое «присутствие создателя в созданье», о котором говорил Жуковский и которое лежит в основе всей романтической натурфилософии. Однако цветаевский поэт стремится определить свою идентичность через отношение с природой еще и потому, что «искусство», по мысли Цветаевой, «есть та же природа» или же «ответвление природы (вид ее творчества)» (СС5, 346). Разговор с кустом – это разговор с иным «ответвлением природы», более совершенным, с точки зрения поэта, ибо внеположным «миру человечьему». В наброске письма Ходасевичу в мае того же года Цветаева определяла «Лирику» как «пятую стихи<ю>, безглагольную, к<ак> всякое до, беспомощную, не-сущую без нас поэтов»534. Поэт оказывается тем, кто дает голос одной из природных стихий, вне этого воплощения «не сущей». Куст зримо воплощает творчество природы, осуществляющееся помимо человека, но ему внятное. Однако скрыто куст (как и божество, в нем себя явившее) воплощает и ту «пятую стихию», которая без поэта, т. е. без его голоса и слова, остается «беспомощной», не внятной миру.
Прямого поэтического выражения эта последняя мысль не находит: Цветаева лишь констатирует несомненность нужды куста в ней – нужды, которая и заставляет ее каждый раз «придавать бессмертную силу» языку. Здесь и вступает в игру мотив «невыразимого», становящийся под пером Цветаевой экзистенциально трагическим. «Знание», получаемое поэтом из природы, и та часть его, которую поэту удается воплотить в слове, оказываются несоизмеримыми величинами. Путь поэта должен быть путем осознания этой личной онтологической трагедии. Если в «Столе» жизнь была приравнена к процессу письма, то теперь Цветаева говорит о трагичности этого процесса – не жизни, а именно письма. Трагичность взаимоотношений поэта со своим временем, с теми историческими обстоятельствами, в которых выпало существовать, – превращается в частность по сравнению с самой трагедией творческого предназначения.
Вторая часть «Куста» рассказывает как раз о том «знании», которое открывается поэту в природе, – причем открывается именно в его до-речевой ипостаси:
А мне от куста – не шуми
Минуточку, мир человечий!
А мне от куста – тишины:
Той – между молчаньем и речью.
Той – можешь ничем, можешь – всем
Назвать: глубока, неизбывна.
Невнятности! Наших поэм
Посмертных – невнятицы дивной.
Невнятицы старых садов,
Невнятицы музыки новой,
Невнятицы первых слогов,
Невнятицы Фауста Второго.
Той – до всего, после всего,
Той – между согласьем и спором,
Ну – шума ушного того,
Всё соединилось – в котором.
«Невнятица», которую слышит художник и которую не может сохранить в своем творении, – это абсолютное воплощение «пятой стихии», то, что наполняет «тишину» мира. Отблеск этой «невнятицы» сохраняют редкие земные творения, «пограничные» в своей сущности, т. е. близкие либо к «до всего» («первые слоги» ребенка), либо к «после всего» (в старости завершенная Гете вторая часть «Фауста»).
Должно быть, «невнятица первых слогов» неслучайно попадает в тот ряд, который репрезентирует в стихотворении нечто не подвластное поэтической речи. В это время Цветаева уже работает над очерком «Мать и музыка», первом в своей «трилогии» о детстве как эпохе становления поэта. Поразительно, что в нем нет и следа того экзистенциального отчаяния, к которому Цветаева приходит в лирике. Творчество, слово, поэзия – прекрасные, вечные, всесильные герои ее прозы. И лишь в соседствующих с этой прозой стихах Цветаева не в силах не говорить об ином: о поражении слова, о бессилии поэта в мире, об отсутствии для себя иного выхода, чем «уединение в груди». В лирике высказывается то, что вытекает из текущего опыта Цветаевой как поэта. Глубокий творческий кризис, обусловленный и историческими и частными причинами, Цветаевой необходимо онтологизировать, чтобы дать ему смысл. В прозе она свободна от подобной необходимости, и это одна из причин все более сознательной и сильной потребности Цветаевой давать выход своим творческим силам именно в ней.