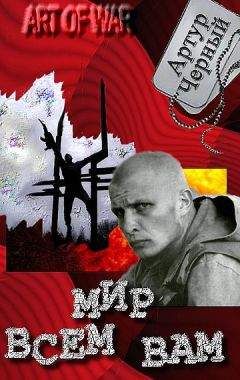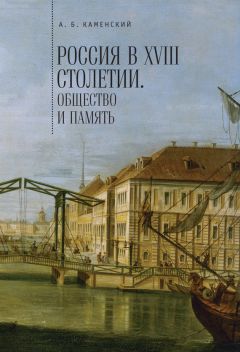Иоганнес Гюнтер - Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном
бурга. Для министра Кассо это будет началом конца, ибо, окажись он, Прущенко, в Петербурге, уж он позаботится о том, чтобы румына убрали, а там… Багровое лицо его сияло как медный таз. Украинские магнаты тоже способны на первобытные чувства. Когда я ему предложил отправить благодарственное письмо великому князю, он покачал головой. Нет, повышением по службе он обязан не великому князю, а салону графини Игнатьевой.
Эта новость была не из приятных, ибо этот салон стал опасным гнездом реакционеров и русофилов, отчасти поддерживаемых православной церковью. Руманов всегда называл его штабом войны: здесь распалялась ненависть к Германии, здесь открыто называли слабаком умницу царя Николая.
Как бы там ни было, но наша с Прущенко связь не прервется и в Петербурге. И он, кажется, воспринял с глубоким удовлетворением мое сообщение о предстоящей театральной карьере. Если б я вдруг стал актером, он лишил бы меня своего расположения, но театральный директор — это солидно, такого знакомства можно было не стыдиться.
В Карлсбад на Рижском взморье, куда мы первым делом отправились с мамой, пришли многообещающие письма. Эрнст Ровольт писал, что он теперь у Фишера, что работа ему очень нравится и что мне имело бы смысл показаться у них в Берлине. Георг Мюллер писал, что не верит больше петербуржцам, но я должен подумать, как все-таки и без них попытаться реализовать проект, связанный с русскими классиками. Письма от Эриха Райса, в которых он спрашивал, не мог бы я, несмотря на… Его главный редактор Ганс Винанд покинул издательство, собираясь основать еженедельную Большую берлинскую газету. Не соглашусь ли я писать для нее из России?
Вот только от Израилевича не было ни строки. Ни на одну телеграмму, ни на одно письмо он не ответил, и никто из моих знакомых не знал, что с ним. Все было вроде в порядке, должно было быть в порядке, но я был почему-то неспокоен. В конце концов, телеграфировал Кузмину, чтобы он зарезервировал мне комнату в «Селекте» и отправился в Петербург. Там, на месте, во всем разберемся.
В «Регину» мне было пока стыдно показываться: ведь мы так серьезно договаривались с ними об аренде помещения. Так что лучше уж в другой отель.
Ранним утром я прибыл в эту незнакомую мне гостиницу. Первый вопрос Кузмина: видел ли я уже Израилевича? Нет? Ну, так он, к сожалению, вынужден мне сообщить, что Израилевич тоже проживает в «Селекте», так как проиграл в Монте-Карло все свои деньги, полученные по наследству.
У меня земля ушла из-под ног.
Вот оно что. Месяц назад, получив деньги, Израилевич отправился с какой-то танцовщицей в Париж, не сказав никому ни слова, а оттуда поехал с ней в Монте-Карло. Несколько дней назад он вернулся. До конца он, конечно, не разорен, семья его не бедствует, но о нашем театре ввиду таких обстоятельств нечего и думать.
Я даже не сел, остался стоять на ногах. Но мне стоило сил не упасть. Должно быть, я улыбался судорожной, вымученной улыбкой. Кузмин это заметил:
Поговори с Румановым!
Это был конец. Даже Руманов не видел выхода. Без базового капитала он не может меня ничем обнадежить. А сам Израилевич только пожал плечами, спихнув вину на меня:
Зачем же ты уехал? Ты ведь знал, что я сумасшедший, меня нельзя оставлять одного. Остался бы ты здесь — у нас сейчас были бы деньги.
Это звучало почти как обвинение. Должно быть, он искал оправданий перед самим собой.
Я не сказал ему ни одного злого слова. Может, просто отнялся язык. Ради этого мы покидали Митаву?
Твердая почва под ногами, в которую я так верил, провалилась. Выходит, я в жертву иллюзиям принес родное насиженное гнездо и втянул маму в свою аферу? Это была катастрофа. Я столкнул нас в безнадежную бездну. Как теперь спасать положение? Только-только вступил я в новую жизнь — и вдруг такой провал в непредвиденный хаос.
Как ни невероятно это прозвучит, но уже две недели спустя, теплым июньским вечером в Карлсбаде на Рижском взморье, куда я немедленно вернулся из Петербурга, я заговорил с девушкой, русской красавицей с голубыми глазами, бронзовыми волосами и золотистым загаром, стройной, с королевской осанкой, которой все вокруг восхищались и которая очень нравилась мне. Внезапно на меня вновь нахлынули стихи, возник целый цикл, который я назвал «Лето на море». Там есть несколько стихотворений, которые я ценю и поныне.
В то длинное, прекрасное лето на море собралось немало людей, выказывавших мне свою симпатию. У Лизы был гостеприимный дом, и маме моей было приятно видеть вокруг себя людей, которые ко мне хорошо относились. Разумеется, у нас бывала княгиня Грузинская; к маме приезжала белокурая Ирмгард; явился однажды молодой поэт Сергей Третьяков, длинный сероглазый блондин, в то время еще ученик символистов и поклонник моих публикаций в «Аполлоне». Он тоже сочинял стихи во славу девушки с бронзовыми волосами, которую я окрестил Виолеттой, произнося ее имя на английский манер — как «Вайолет». Уже тогда у меня появилась привычка давать новые имена людям, меня окружающим. Может быть, компенсация за те драмы, которые я не написал.
В один прекрасный день появился и Мейерхольд. Он привез с собой пьесу, которую написал по мотивам «Любви к трем апельсинам» Гоцци и которую предложил мне перевести. Однажды целый день мы провалялись с ним на белом песочке в тени большой дюны неподалеку от дома моей сестры. Там я и мои друзья слушали и заслушивались рассказами этого великого театрала.
Мы провели с ним чудесный вечер вдвоем. Устроившись на макушке дюны, мы предавались мечтам о бессмертном театре человечества, театре не для избранных, а для всех. Море плескалось у наших ног, белые звезды всхо
дили и заходили, величественная ночь милостиво внимала нашим мечтам. Сергей Третьяков, которого с нами не было, потом запечатлел эту сцену — она и впрямь была поэтична.
Лиза с мужем и детьми вернулась в середине августа в Митаву, мама еще три недели оставалась со мной на взморье. И в это время прекрасного одиночества я написал большую работу, для которой мне были потребны сосредоточенность и покой.
Княгиня Грузинская передала мне сердечный привет от вильнюсского епископа, а также его пожелание, чтобы я написал проспект — как художественный, так и технический — такого театра, какой себе представляю. Мои мысли об этом предмете заинтересовали его, и он с удовольствием побеседует со мной, прочитав такую памятную записку. Я было стал отнекиваться, говоря, что для этого потребуется написать полкниги, но княгиня высмеяла меня, намекнув, что, мол, кто знает, — у кардинала большие возможности.
Мой ночной разговор с Мейерхольдом на дюне меня подстегнул, и за три недели я написал сто с лишним страниц, дополнив написанное еще разными приложениями.