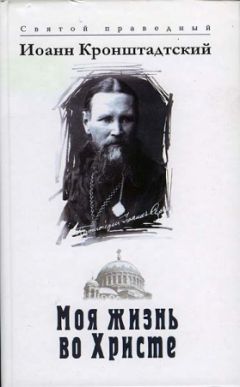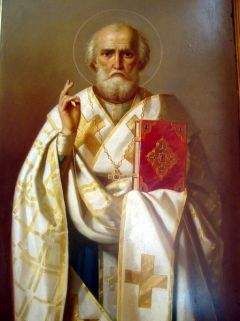Андрей Тарковский - Ностальгия
Автор. Вот что, Наталья. Пускай Игнат живет со мной.
Наталья. Ты что это, серьезно?
Автор. Ну ты же сама как-то говорила, что он бы хотел этого.
Наталья. Тебе просто ничего нельзя сказать…
Автор. Ты что, воображаешь, что все это я иридумал для собственного удовольствия, развлечения? Давай без лишних эмоций спросим у него самого. Как он решит, так и… Кстати, и тебе будет легче.
Наталья. В чем мне будет легче?
Автор. Игнат!
Наталья. Ты учебники собрал? Иди попрощайся с отцом.
Автор. Игнат, мы с мамой хотели тебя спросить…
Игнат. Чего?
Автор. Может быть, тебе лучше у меня жить?
Игнaт. Как?
Автор. Ну остаться здесь, будем жить вместе… В другую школу перейдешь. Ты ведь говорил как-то маме об этом… Нет?
Игнат. Что говорил? Когда? Да нет, не надо!
Пауза. Наталья рассматривает фотографии Марии Николаевны.
Наталья. Нет, а мы с ней действительно очень похожи.
Автор. Вот уж ничего общего!
Игнат выходит из комнаты.
Наталья. А что ты хочешь от матери? Каких отношений? А? Те, что были в детстве, — невозможны: ты не тот, она не та. То, что ты мне говоришь о своем каком-то чувстве вины перед ней, что она жизнь на вас угробила… что ж. От этого никуда не денешься. Ей от тебя ничего не нужно. Ей нужно, чтобы ты снова ребенком стал, чтобы она тебя могла на руках носить и защищать… Господи, и что я лезу не в свои дела? Как всегда. (Плачет.)
Автор. Что ты воешь? Ты мне можешь объяснить?
Наталья. Выходить мне за него замуж или нет?
Автор. За кого? Я хоть его знаю?
Наталья. «Та ни-и!..»
Автор. Он украинец?
Наталья. Ну какое это имеет значение?
Автор. Ну все-таки, чем он занимается?
Наталья. Ну, писатель…
Автор. А его фамилия случайно не Достоевский?
Наталья. Достоевский.
Автор. До сих пор ни черта не написал. Никому не известен. Лет сорок, наверное. Да? Значит, бездарность.
Наталья. Знаешь, ты очень изменился.
Автор. Так вот: бездарен, ничего не пишет.
Наталья. Почему? Он пишет. Только не печатается.
Автор. О, вон полюбуйся, наш дорогой двоечник что — то поджег. Теперь меня оштрафуют.
Наталья. Ты совершенно напрасно иронизируешь насчет двоек.
Автор. Вот не кончит он школу, загремит в армию! И будешь ты обивать пороги и освобождать его от службы! Причем стыдно будет мне. Это все плоды твоего воспитания, между прочим! Он не готов к армии. Кстати, ничего бы страшного с ним в армии не случилось…
Наталья. Ты почему матери не звонишь? Она после смерти тети Лизы три дня лежала.
Автор. Я не знал.
Наталья. Ведь ты же не звонишь!
Автор. Она же… Она же должна была сюда прийти в пять часов.
Наталья. А самому первый шаг трудно сделать?
Автор. Мы ведь сейчас об Игнате разговариваем, кажется. Не знаю, может быть, я тоже виноват. Или мы просто обуржуазились. А? Только с чего бы? И буржуазность-то наша какая-то дремучая, азиатская. Вроде не накопители. У меня вон один костюм, в котором выйти можно. Частной собственности нет, благосостояние растет. Ничего понять нельзя.
Наталья. Ты все время раздражаешься.
Автор. У одних моих знакомых сын. Пятнадцать лет. Пришел к родителям и говорит: «Ухожу от вас. Все. Мне противно смотреть, как вы крутитесь. И вашим, и нашим!» Хороший мальчик, не то что наш балбес. Наш ничего такого, к сожалению, не скажет.
Наталья. Представляю себе твоих знакомых!
Автор. А что? Не хуже нас. Он в газете работает. Тоже писателем себя считает. Только никак не может понять, что книга — это не сочинительство и не заработок, а поступок. Поэт призван вызывать душевное потрясение, а не воспитывать идолопоклонников.
Наталья. Слушай, а ты не помнишь, кому это куст горящим явился? Ну, ангел в виде куста?
Автор. Не знаю, не помню. Во всяком случае, не Игнату.
Наталья. А может, его в суворовское училище отдать?
Автор. Моисею. Ну… Ангел в виде горящего куста явился пророку Моисею. Он еще народ свой там вывел через море.
Наталья. А почему мне ничего такого не являлось?
Я видел все так отчетливо, стоя за кустом, шагах в десяти от них. А они, мальчишка и девочка, бегали по нашей неглубокой, тихой Вороне, как когда-то бегали по ней мы с сестрой. И так же брызгались и что-то кричали друг другу. И так же на мостках из двух ольшин полоскала белье мать и изредка, откинув упавшую на глаза прядь волос, смотрела на ребят, как когда-то смотрела на нас с сестрой.
Это была не та, не молодая мать, — какой я помню ее в детстве. Да, это моя мать, но пожилая, какой я привык ее видеть, теперь, когда, уже взрослый, изредка встречаюсь с ней.
Она стояла на мостках и лила воду из ведра в эмалированный таз. Потом она позвала мальчишку, а он не слушался, и мать не сердилась на него за это. Я старался увидеть ее глазами, и когда она повернулась, в ее взгляде, каким она смотрела на ребят, была такая неистребимая готовность защитить и спасти, что я невольно опустил голову. Я вспомнил этот взгляд. Мне захотелось выбежать из-за куста и сказать ей что-нибудь бессвязное и нежное, просить прощения, уткнуться лицом в ее мокрые руки, почувствовать себя снова ребенком, когда еще все впереди, когда еще все возможно…
…Мать вымыла мальчишке голову, наклонилась к нему и знакомым мне жестом слегка потрепала жесткие, еще мокрые волосы мальчишки. И в этот момент мне вдруг стало спокойно, и я отчетливо понял, что МАТЬ — бессмертна.
Она скрылась за бугром, а я не спешил, чтобы не видеть, как они подойдут к тому пустому месту, где раньше, во времена моего детства, стоял хутор, на котором мы жили…
1966–1972 гг.
Тонино Гуэрра[93]