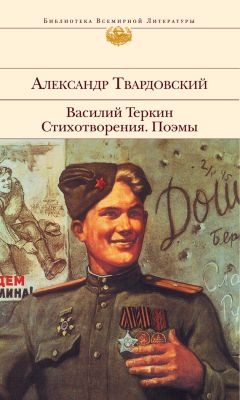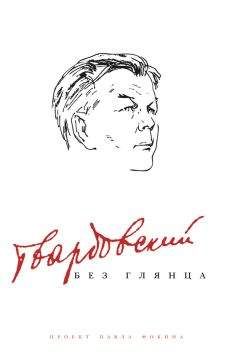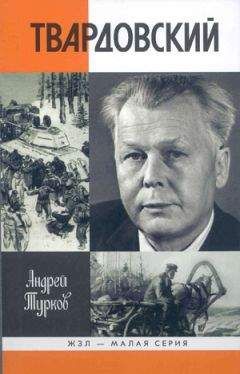Иван Твардовский - Родина и чужбина
— Я восхищен! Великолепно! Примите мою признательность.
О том, какие цены я назначал моим заказчикам за выполненные работы, я не скажу, это не суть важно. Главное было в том, что я всегда успевал изготовлять модели, из-за меня формовка и литье не задерживались, нормы выработки, само собой, выполнялись не менее ста пятидесяти одного процента, то есть один день засчитывался за три дня.
О моих как бы не совсем законных работах по частным просьбам и заказам я упомянул с долей смущения, вроде опасаясь суждений читателя, что, мол, "хапуга и в заключении нашел источник дохода". Ну что ж? Каждый волен думать по-своему, не буду доказывать, что это не так. Как бы кому ни казалось, но за работу не грешно получить и оплату. Тем более если она мастерски исполнена заключенным. К тому же резьба по кости не каждому с руки.
Слухи ширились, и я не успевал выполнять просьбы на изготовление сувениров. Я делал из мамонтовой кости и бивней моржа браслеты для наручных часов, различные статуэтки с резным изображением северных сюжетов, скульптурную резьбу на моржовых бивнях, ажурные колье, пудреницы и миниатюрные шкатулки, медальоны и брелоки, футляры прорезные для наручных часов, стетоскопы и трубки курительные, пуговицы для женских пальто, пряжки к поясным ремням, ручки для письма, чернильные приборы, шпильки для волос и так далее. Все это делалось, повторяю, в свободное от основной работы время с разрешения Юровского, который делал даже заявки и на выходные, чтобы я мог выйти из зоны. Не платили мне за работу только большие начальники (начальник автобазы Тетерюк, начальник райотдела МГВ Корсаков, начальник Чукотлага майор Стеценко, главный инженер Швырков). Непосредственный мой начальник Юровский, в отличие от других, бесплатно мой сувенир не принял, хотя я был намерен не брать с него ни копейки, но он на это не пошел.
Первое письмо от жены я получил осенью 1948 года. Она сообщала, что наша дочурка Тамара умерла в 1943 году в возрасте двух лет. В детских яслях была помещена в изолятор по подозрению на инфекцию. В неотапливаемом изоляторе переохладилась, началась пневмония, и это привело ребенка к гибели. О сыне Валерии (в 1948 году ему было девять лет) писала, что хотя он и ходит в школу, но продолжает оставаться больным и надежды на выздоровление нет — водянка мозга неизлечима. Мое письмо, сложенное треугольником и на ходу поезда с зэками выброшенное на какой-то станции в Читинской области в 1947 году, она получила, поняла, что я осужден. Но как бы ни было ей тяжело, писала, что все равно благодарит Бога, что я еще живой. Выражала готовность ждать сколько бы ни было долго. В этом же письме сообщала о встрече с Александром Трифоновичем во время его пребывания в 1948 году в Нижнем Тагиле (кажется, в августе). До этого она с ним не встречалась, но поскольку ему было известно еще до войны, что в Нижнем Тагиле жил и работал брат Иван с женой, а также она обращалась к нему с просьбой во время войны и он откликнулся, то Мария Васильевна решила встретиться с ним. Нашла она его в гостинице "Северный Урал". Он имел с ней краткую беседу, но именно в том духе, чтобы только не выглядеть полным невежей. Живого интереса к встрече не выразил, о брате Иване — уклончиво. Сказал, что "давно с братьями не живу, Ивана мало знаю…" и так далее. Встреча произошла в коридоре гостиницы, в номер не пригласил. И было ясно, что хотел поскорее откланяться. Об этом и вспоминать тяжело. Александр Трифонович в те годы еще не видел и не осознавал суть сталинской диктатуры. Имя Сталина для него было священным, и это он подтвердил в 1949 году "Словом советских писателей", в котором он был соавтором, посвященном вождю в день его 70-летия. Это «Слово» Александр читал в присутствии Сталина на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 21 декабря 1949 года.
Жена писала мне часто, иногда даже не дожидаясь моего ответа, всегда нежно и сострадательно, не пытаясь обязать меня ответить; за что, на сколько лет, полагая, что мне трудно будет что-либо скрывать, недоговаривать, а может, этим она давала понять, что будет ждать сколько угодно. И дождалась. К моему великому огорчению, сын Валера меня не дождался, умер в 1951 году. Вот такая судьба моя.
Тепло, по-братски, писал мне на Чукотку брат Константин. После восьми лет полной неизвестности о моей судьбе Мария Васильевна сообщила ему мой адрес, и я получил от него письмо. Были в том письме такие строки:
"Мне все, Ваня, понятно, кроме срока. Прошу поверить, что я никогда не посмею упрекнуть тебя. Войну я прошел полностью до самого Берлина. Был тяжело ранен, на излечении находился больше года в городе Камень-на-Оби. Имею награды: «Славу» и три общих медали…" Дальше сообщал, что имеет сыночка-Василечка, "хотя и не своего, но нашей породы". Жил Константин тогда, в конце сороковых, на Кубани, в станице Прочноокопской, а в пятидесятом переехал на родину, в Смоленскую область. Там он стал коммунистом, и свое обещание "никогда не посмею упрекнуть" запамятовал и… упрекнул. Вот так оно, в нашей жизни…
Время не стояло. Дни, месяцы, годы проходили порой быстро — увлекался работой. В конце 1949 освободился один из моих близких друзей Саша Машаров. Уехать не мог: навигация закончилась. Пришлось Саше зимовать в том же поселке Эгвекинот. Оформился по вольному найму на ту же должность — сменным мастером в механический цех. Как и прежде, он продолжал бывать у меня в модельной, засиживался вечерами, с грустью вспоминал об отце, который тоже тянул срок где-то в Соликамском районе. Одно-единственное письмо отца он получил за эти годы. Раза два показывал то письмо мне, и я на всю жизнь запомнил слова: "Дорогой сын! — писал Машаров-отец. — Волей случая я получил твое письмо. Горька наша судьба: вряд ли доведется нам увидеться. Ждет меня маленький дом и большой покой…"
Через сорок лет бывший зэк Саша Машаров приехал ко мне на Смоленщину, на мою малую родину, чтобы присутствовать на юбилейных торжествах, посвященных 80-летию Александра Трифоновича Твардовского, посмотреть воссозданный отчий хутор Загорье — мемориальный музей. Он приехал из Мариуполя на собственном «Москвиче» 16 июня 1990 года. Теперь он реабилитирован. Дал почитать свои воспоминания, пока неопубликованные. Вот что я посмел выписать о его отце: "А отец, хоть из рязанских лапотников, а умудрился закончить Томский университет. Перед арестом в 1941 году он преподавал физику и математику в Абаканском пединституте. Его посадили уже второй раз. Первый раз, когда началась охота на наших родных ведьм. Жгли книги в библиотеках Минусинска. Книги горят плохо. Я тайком, по ночам, натаскал домой сочинения Джека Лондона, Э. Сетона-Томпсона и много других. Когда же донесли на отца и был обыск, то нашли какого-то неведомого в то время кулацкого «перерожденца» Чаянова. И было это перед убийством Кирова, вот отца и замели".