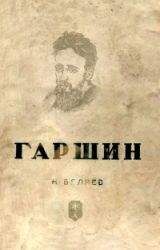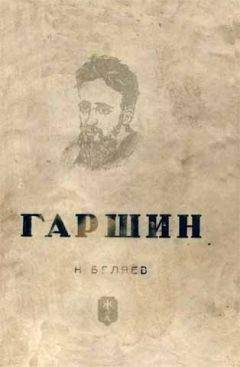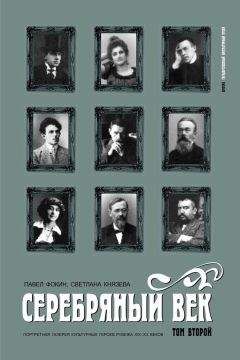Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
По существу же Шервашидзе оставался и впоследствии таким же чарующе-туманным, такой же „складной душой“, охотно подчиняющейся и мнению, и воле других и не боровшейся со своей трудноодолимой склонностью к far niente [итал. ничегонеделанию. – Сост.]. Это не мешало ему быть всегда опрятно одетым, отличаться большой воздержанностью в пище и в питье» (А. Бенуа. Мои воспоминания).
ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим Габриэлевич
Поэт, один из главных теоретиков имажинизма, переводчик, мемуарист. Член объединения «Гилея». Лидер московской группы футуристов «Мезонин поэзии». Член «Ордена имажинистов». Стихотворные сборники «Весенние проталинки» (М., 1911), «Романтическая пудра» (СПб., 1913), «Экстравагантные флаконы» (СПб., 1913), «Carmina. Лирика. 1911–1912» (М., 1913), «Автомобильная поступь. Лирика. 1913–1915» (М., 1916), «Быстрь. Монологическая драма» (М., 1916), «Вечный жид. Трагедия великолепного отчаяния» (М., 1916), «Крематорий» (М., 1918), «Лошадь как лошадь. Третья книга лирики» (М., 1920), «Одна сплошная нелепость» (М., 1922), «Кооперативы веселья. Поэмы» (М., 1921), «Шиш» (М.; Пг., 1924; совм. с Г. Шмерельсоном), «Итак итог» (М., 1926). Книги «Футуризм без маски» (СПб., 1913), «Зеленая улица» (М., 1916) и др. Книга воспоминаний «Великолепный очевидец».
«Вот вождь имажинистов – наглоликий, лопоухий и щегольски вылощенный Вадим Шершеневич, специалист по зычному прорезыванию своим громадным, резко-металлическим голосом несущегося к эстраде шума и свиста своих оппонентов» (Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся).
«Вышел и заговорил. Любит не слово, а фразу. Его образы цепки, как и его остроты. Говорит, говорит – и ищет лукавым взглядом свежей мысли и новой остроты. Оглушительный смех.
Упрямое лицо и уши как две ручки от вазы. Наскоро завязанный галстук. Уверенные движения рук. Засыпет тяжелыми пятаками слов» (Б. Глубоковский. Маски имажинизма).
«Вадим лицом и фигурой напоминал боксера, даже уши были слегка приплюснуты. Он, действительно, хорошо боксировал, и мне приходилось видеть, как раза два он это доказывал на деле, заступаясь за Сергея [Есенина. – Сост.] после его выступления с „Сорокоустом“ (в первой озорной редакции). Вообще же между Есениным и Шершеневичем была дружба, основанная на взаимном уважении, хотя в поэзии они стояли на противоположных полюсах» (М. Ройзман. Все, что помню о Есенине).
«…Захваченный общим настроением, ярким светом десятков свечей и громадностью зала В. Г. громко и страстно, с увлечением декламировал отрывки из своих произведений. Голос его громко и отчетливо раздавался по зале, и сам он, крупный, сильный, дерзкий, красивый, породистый, кипучий, производил незабываемое впечатление этой своей силой. Есть что-то в Шершеневиче, во всем складе характера, голоса, таланта, американской, скажу, гениальности и нерусской оборотливости, что влечет к нему эти толпы серых, глупых обывателей, что заставляет их жать ему руки, благодарить за вечер, а ему, в свою очередь, с удивительной пылкостью произносить горячие филиппики, электризующие это безголовое стадо и несомненно дающие право поэту на бессмертие» (Т. Мачтет. Из дневника. 1920).
«Вадим Шершеневич владел словесной рапирой, как никто в Москве. Он запросто – сегодня в Колонном зале, завтра в Политехническом, послезавтра в „Стойле Пегаса“ – нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистовой веры в божественную метафору, которую мы называли образом» (А. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги).
«Вождь „Мезонина поэзии“ любил разыгрывать из себя футуристского Брюсова. Сам еще достаточно молодой, он совмещал в своем облике денди и эрудита. Он приглашал в определенные часы в свой, обставленный по-профессорски, кабинет. Скрестив руки, покачивая длинным лицом, он читал отпечатанные на машинке строки. Правильный пробор, искусственный цветок в петлице, вождь чувствовал себя все время словно перед зеркалом. Жестоко подражавший Маяковскому, он боялся его и ненавидел. Всячески старался себя противопоставить Маяковскому, щеголяя своим знанием французских поэтов и Маринетти. Хронологии он придерживался особой: это было тогда, когда я написал „луна, как ссадина на коже мулатки“. От собеседника требовалось почтение и должное удивление перед остроумием мэтра» (С. Спасский. Маяковский и его спутники).
ШЕСТОВ Лев Исаакович
Философ. Сочинения «Добро и зло в учении гр. Толстого и Фр. Ницше» (СПб., 1900), «Достоевский и Ницше» (СПб., 1903), «Апофеоз беспочвенности» (СПб., 1905), «Начала и концы» (СПб., 1908), «Великие кануны» (СПб., 1910), «Что такое русский большевизм?» (Берлин, 1920), «На весах Иова: Странствования по душам» (Париж, 1929) и др. Собрание сочинений (т. 1–6, СПб., 1911). С 1922 – за границей.
«Лев Шестов, о нем еще с Петербурга, когда он начал печататься в Дягилевском „Мире Искусства“, пущен был слух как о забулдыге – горьком пьянице. А на самом-то деле, – поднеси рюмку, хлопнет и сейчас же песни петь! – трезвейший человек, но во всех делах – оттого и молва пошла – как выпивши.
Розанов В. В., тоже от „странников“, возводя Шестова в „ум беспросветный“, что означало верх славословия, до того уверился в пороке его винном, всякий раз, как ждать в гости Шестова, вином запасался и всякий раз, угощая, не упускал случая попенять, что зашибает.
А настоящие люди – ума юридического – отдавая Шестову должное как книжнику и философу, в одном корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы с Лундбергом, и все приписывалось запойному часу и по пьяному делу…» (А. Ремизов. Встречи. Петербургский буерак).
«Он пришел – как из опаленной Иудейской земли – темный загар, рыже-коричневая борода и такие же кучерявящиеся над низким лбом волосы. Добрые и прекрасные глаза. Веки чуть приспущены, точно отгораживая от всего зримого. Позднее в своих бесчисленных разговорах с Шестовым я заметила, что для него не существует искусства, воспринимаемого глазом: ни разу он не упомянул ни об одной картине. Доходчива до него только музыка да слово.
…Поразил меня его голос, хрипловатый, приглушенный, весь на одной ноте. Сразу пришло на ум сравнение: так скрежещет морской песок, когда волна прихлынет и отхлынет опять и тянет его по широкому взморью за собой, в глубину. Пленил этот его затягивающий в свою глубину голос. Тут же в наше первое свиданье он рассказал мне, что в юности со страстью пел, готовился на сцену и сорвал, потерял голос.