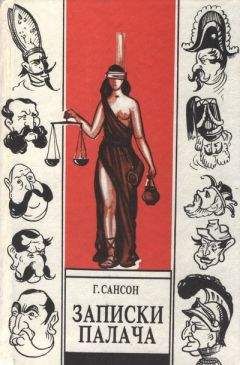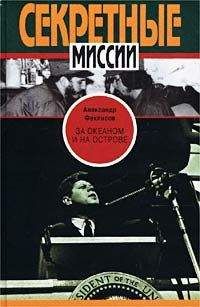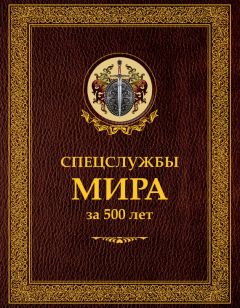Анри Сансон - Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции, книга 2
— Разрушь гильотину скорее, нежели допустить, чтобы она взяла это дитя!
Помощники подвели ее, я слышал ее голос, сказавший: «Хорошо ли я так стою?» Я поспешил обернуться, глаза мои заволокло каким-то облаком, и я чувствовал, как колени мои дрожали. Мартен скомандовал вместо меня и сказал мне:
— Ты болен, ступай домой, я останусь один.
Я сошел с эшафота, не говоря ни слова, и удалился, не оглядываясь. Галлюцинации не покинули меня за весь день; они были так сильны, что на углу улицы Сентанж, когда подошла ко мне нищая просить милостыню, то мне показалось, что это она, и я едва не упал навзничь. Сегодня вечером, садясь за стол, я утверждал жене моей, что вижу на скатерти кровавые пятна.
30 прериаля. Сегодня декада, не было казней. Я провел весь день дома, где читал газету.
5 мессидора. С первого по четвертое казнено 92 осужденных.
6 мессидора. Боязнь смерти побудила одного из заключенных в Маделонетской тюрьме повеситься. Вот простота Грибуля, оправданная весьма мрачным образом. Прежде чем повеситься, он написал Робеспьеру письмо следующего содержания: «Добродетельный Робеспьер, позаботьтесь о моей жене, которой нечем будет существовать». Это уже второй, который таким образом сам идет навстречу смерти. Бывший слуга герцога Каньи, некий Куни, заключенный в Порлибр, уже зарезался бритвой, оставив завещание такого содержания: «Это полицейский комиссар моего квартала желает, чтобы я попал на гильотину. Он говорит, что я негодяй, что я украл у своего господина все, что имею. Это неправда, но он зажимает мне рот, когда я хочу отвечать. Я соблюдал экономию для моих племянниц и для одного сироты, которого презрел. Я передаю их на попечение Национального Конвента и прошу привратника отнести это завещание в комитет общественной безопасности». Сегодня казнены 25 человек.
8 мессидора. Сегодня казнены прочие заключенные в Бисетре, замешанные доносами Валаньоса. Между ними находился прежний народный представитель Осселен, в небольшом доме в окрестностях Марли скрыл он изгнанницу — госпожу Шарри. Этот великодушный поступок стоил ему сперва свободы, а потом жизни. Он имел неосторожность доверить свою тайну одному несчастному, которого считал своим другом. Этот, представленный госпоже Шарри, влюбился в нее и сделал ей постыдное предложение. Она отвергла его, и на другой день убежище ее окружено было солдатами; ее арестовали, отвели в трибунал и казнили.
Так как в то время закон, осуждающий на смерть всякого, кто даст убежище изгнаннику, не был еще издан, то Осселен присужден был к 10 годам заключения в кандалы и помещен в Бисетр вместе с разбойниками. Прежнее его положение, а в особенности связи его с партией Дантона, указывали на него тем, которым поручено было очистить темницы; его включили в число заговорщиков, которые, по мнению Фукье, хотели нанизать на иглы сердца членов комитета и скушать их. Решившись избавить себя от казни, он достиг того, что вырвал большой гвоздь из стены своей тюрьмы и в три приема воткнул его себе в живот, но все-таки не смог умертвить себя. Т*., доктор в Консьержери, высказал в этом случае здравый смысл и человеколюбие; правда, это продолжалось недолго. Когда пришли за Осселеном, чтобы вести его в трибунал, Т*. объявил, что это бесполезное варварство, что раны, которые Осселен нанес себе в живот, осуждают его на скорую смерть, вернее всякого судебного приговора. Но трибунал неохотно отказывался от единственной головы, которая придавала хотя некоторое значение мрачной жертве в Бисетре. Лиендон настаивал, Осселена отнесли в суд, и Дюма принял стоны его вместо показаний. Когда вынесли его, он упал в обморок. Ему дали понюхать уксус, и он пришел в себя; обводя глазами всех окружающих его, он сказал: «Что ж эта смерть, разве не придет она!» Он попытался освободить руки свои из рук помощника, который схватил их, чтобы связать; он намеревался сорвать повязку со своей раны. Т*., смотревший за ним, сказал ему: «Будьте спокойны, отсюда до гильотины далеко, и прежде чем вы прибудете туда, если только не свершится чудо, то вам не придется иметь дело с ней». Предсказание его сбылось лишь наполовину. Когда мы прибыли, Осселен, которого поместили в повозку, не подавал признаков жизни; глаза его остановились, губы посинели, рот раскрылся, зубы стиснулись. Считая его мертвым, я приказал Деморе покрыть труп и оставить его в повозке, но Т*., сопровождавший нас, утверждал, что он еще жив и что следует исполнить приговор. Я отказывался, и тогда он сказал мне: «Глупец, если он умер, то разве не все равно, что он явится на тот свет с головой под мышкой, а если бы мы оставили ее при нем, и он неожиданно воскреснул бы, то, наверное, это наделало бы хлопот и мне, и тебе!» Его отнесли наверх, но ни один мускул лица его не содрогнулся, когда упал нож; и чтобы ни говорил доктор, мы убеждены, что обезглавили труп.
Журнал моего деда оканчивается на 9 мессидоре без объяснения причины такого прекращения. Он не отличался чувствительностью, но, тем не менее, его мужество, бесстрашие духа его при виде смерти не могли противостоять силе впечатлений, перенесенных им накануне. После казни красных рубах он слег в постель вследствие кризиса той болезни, которая несколько месяцев спустя вынудила его отказаться с своей должности. Мой дядя, заменявший его в подобных случаях, заметил, что в это время, самое жестокое из всего революционного периода, старый, палач, видимо, страдал под гнетом чувств, походившими на угрызения совести. Он был бледен, взволнован, беспокоен, он искал уединения, и однако нередко уединение было для него поводом к необъяснимому испугу. При всяком неожиданном шуме он вздрагивал. Он не рассказывал более жене и детям те сцены, которым был свидетелем. Симпатия, ненависть, сожаление, раздражение, которым он в прежнее время давал свободное течение, казалось, изгладились из души его, чтобы оставить ее под гнетом того, что я не смею назвать ужасом, но что, наверное, было отвращением и для приказывавших, и для исполнявших. С такими мыслями под влиянием болезни, которая овладевала им, понятно, что он не решался среди вечерней тишины и уединения, вызывать привидения, порожденные утром ножом его. С последних дней прериаля имена осужденных лишь иногда замечались в его записках. Правда, что в это время гильотина была построена на коммерческом основании, и что, когда сам хозяин воздерживался, то его непременно заменял бухгалтер. Делоре, о котором говорит Шарль Генрих Сансон, и внук которого в настоящее время палач в Бордо, исполнял одновременно должности старшего помощника и приказчика. Акты раздевания трупов, составляемые им каждый вечер, были собраны в один реестр, остававшийся в руках палача. По этому реестру составил я те списки, которые не сохранились дедом моим, причем старательно сличил их с журналами того времени и со списками, не заслуживающими особой веры Прюдома. Я отсылаю к концу этого труда полный мартиролог страшных месяцев мессидора и термидора и буду продолжать мою историографию эшафота при помощи других документов, оставленных отцом моим.