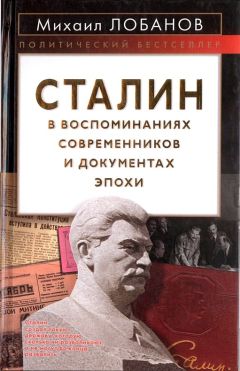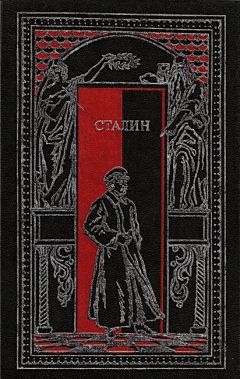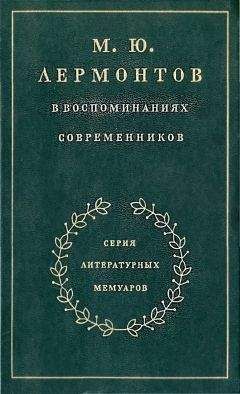Ростислав Юренев - Эйзенштейн в воспоминаниях современников
Эйзенштейн всегда находил очень точные слава для определения сущности персонажа. «Закованный в латы!» — это уже многое может дать актеру с воображением. Но это выражение имело еще и другую сторону. Эйзенштейн сказал: «Когда вы облачитесь в латы, пройдете несколько шагов и опуститесь на колено, — вам станет яснее Штаден. И еще — вспомните про тяжелый кованый сапог немецкого солдата…» И действительно — когда я, буквально закованный в латы, пошел, — они заскрипели, затрещали, загрохотали, как сухие ломающиеся кости. Тяжелый шаг точно ассоциировался с поступью сапог немецких солдат, топтавших в те годы нашу землю. И когда я с грохотом опустился на одно колено перед Грозным — суть образа Штадена окончательно стала для меня ясной.
Распространенное мнение — будто бы Эйзенштейн не умел работать с актером — чепуха. Эйзенштейн умел работать с актером — только делал это по-своему. Один работает так, другой иначе. То, что вообще отличает Эйзенштейна как режиссера, — это глубокая продуманность всех решений заранее. Нет мучительных поисков на съемочной площадке: все уже готово, остается только снимать. Иные режиссеры не знают, с чего начать, пытаются выудить из актера что-то такое, чего еще сами не знают. С Эйзенштейном никогда не было ничего подобного. На площадке он работал с актером удивительно быстро — и это потому, что он все приготовил заранее, не полагаясь на импровизацию. И это — при его колоссальной фантазии! Потому актеру не приходилось вымучивать себя. Работалось с Эйзенштейном легко и бодро, не было тяжести и творческой неудовлетворенности. Это не значит, конечно, что не было трудностей. Фильм снимался в войну, по ночам, да и роли были сложнейшие. Но Эйзенштейн умел снимать с актера большую часть тяжести. Например, в трудных сценах актеру нельзя слишком долго — если хотите, «потно» — думать об одном и том же, до одурения затверживать роль. Приедается текст, актер устает, выбивается из роли — нужна разрядка. И Сергей Михайлович умел это делать удивительно. Вовремя рассказана веселая история — и всю тяжесть как рукой сняло. Он бывал резок, когда съемка срывалась или капризничал актер. Но вообще работал весело, бодро и быстро. Разве это не говорит о глубоком понимании режиссером актерской работы?
Существует еще мнение, что Эйзенштейн делал все один, подавляя личность актера. Это тоже неправда. Актеры работали вместе с ним как равноправные соавторы роли. Просто актеры были согласны с ним, с теми задачами, которые он перед ними ставил.
Что касается меня, то я не помню, чтобы он существенно менял рисунок моей игры. Поправки, конечно, были — но главным образом композиционного порядка. Ведь актер должен был занимать строго определенное место в эйзенштейновском кадре. На репетициях перед началом съемок он обязательно рассказывал о сцене в целом, напоминал о роли персонажа в ней. Показа, как правило, не было. Но иногда — когда, например, нужно было нагнуться — Эйзенштейн показывал, и так, что сразу становился явным принцип того, чего он хотел. Это всегда накладывалось на уже готовый рисунок образа, и сразу вытекало решение. Оставалось только внести поправку и играть.
Михаил Кузнецов
Мы спорили…
В 1941 году я снимался в «Машеньке» у Ю. Я. Райзмана. Стоял в перерыве на «Мосфильме» — курил. Дверь во двор открыта, идет какой-то толстенький человек, немного гусиной походкой, быстро, и протягивает открытую руку, ладонью: «Здравствуйте». — «Здравствуйте». «Как себя чувствуете?» — «Ничего». — «Видел ваш материал. Желаю успеха!» Еще что-то сказал и ушел. Я тут спросил: «Кто этот человек?» — «Эйзенштейн». Я пожалел, что был к нему не очень внимателен, потому что об Эйзенштейне слышал, конечно. А затем в Алма-Ате, в эвакуации, встретились уже в коридоре гостиницы как знакомые: «Между прочим, я дам вам прочитать сценарий». — «Какой?» — «Иван Грозный». Как потом оказалось, он еще тогда, в 1941 году, заметил меня для роли Федора Басманова.
Общение с Эйзенштейном произвело на меня, конечно, огромное впечатление. Но я пришел к нему из студии Станиславского, где внимание к актеру непосредственное, где образ рождается от актера к форме, а не от формы к актеру, как у Эйзенштейна. И должен сказать, что в этой области он меня не покорил никак. Тут я ему несколько противился. Потому что я по-прежнему считаю, что самое главное в кадре — это живой человек, и рисунок роли — не преднамеренно вычерченный, а обязательно немножко импровизационно-рожденный. Тогда этот живой человек может взволновать зрителей. Не случайно, вероятно, у Эйзенштейна в фильмах мало живых людей. Он поражает масштабностью, он поражает композиционностью, он поражает особенностью разработки чисто изобразительного решения. Наконец, он поражает своей огромной интеллектуальностью. Но я не такой уж поклонник Эйзенштейна как режиссера для актера. С точки зрения работы с актером есть режиссеры лучше — например, К. С. Станиславский, у которого я имел честь учиться, или М. Н. Кедров. Из кинорежиссеров для меня самый, пожалуй, ясный режиссер — Иосиф Хейфиц. Очень мне был симпатичен В. Браун — потому что он давал самое главное, что мне, как актеру, нужно, — свободу. А Эйзенштейн как бы помещал в золотую клетку. Это очень красиво, во все-таки ты находишься в клетке его воображения.
Картину «Иван Грозный» я не считаю своей — это картина Сергея Эйзенштейна, в целом и во всех деталях. «Матрос Чижик» — это моя картина, это я придумал, это я решил, это я сделал. А на «Грозном» я был ведомым. Разные есть актеры. Есть актеры, которые любят, чтобы их вели: «Поработайте со мной, ну поработайте…» А я этого не люблю — когда со мной работают, я сам люблю работать, я сам люблю помучиться, я сам люблю достигнуть. А если мне покажут — мне это неинтересно.
А Эйзенштейн часто показывал, и очень ловко показывал. Но это касалось прежде всего линии движения, жеста. Линию он чувствовал, ее он мог показать. Но воспроизвести актерскую интонацию, или просто прочитать монолог, или сыграть сцену Эйзенштейн не мог. Он сам никакой те актер — это мое впечатление. Отобрать он мог — то, что подходит к его замыслу. Он говорил: «Нет, не так. Тут нужно мрачнее», или «Тут нужно грознее», или «Мягче», «Нет, нужно быстро, здесь другой ритм». А выйти на площадку и показать, как надо играть, — этого он не мог. Показывал, какое движение в кадре, какой поворот, как в это время ляжет складка, как запнется «хвост» мантии и в какой стороне будет посох. Вот это он видел.
Однако — он разрешал импровизировать. Помню, я на чем-то настаивал: «Вот так, мне кажется, лучше» — «Ну покажи. (Подумал.) Можно и так. Тебе так удобнее? Давай». Он соглашался, если актерское предложение не шло совсем уж вразрез с его замыслом.