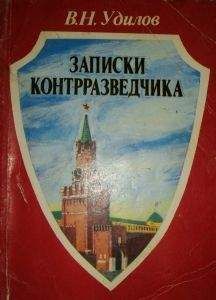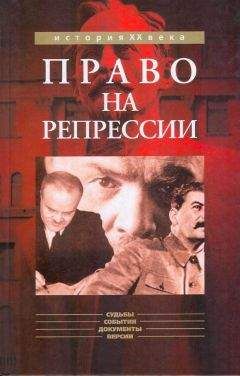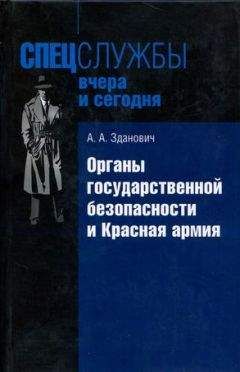Анри Перрюшо - Сезанн
И даже мазок Сезанна не был похож на плавные, чуть шевелящиеся, втекающие друг в друга мазки его собратьев-импрессионистов. Это был мазок резкий, по форме приближавшийся к прямоугольничку, вертикальному, горизонтальному или косому штриху. Мазки эти упирались друг в друга под прямыми, тупыми, острыми углами. Они не желали круглиться, они ершились и сдвигались, рождая ощущение напряженных столкновений.
У импрессионистов жил дымчатый воздух, пронизанный светом. Он окутывал землю, скрадывая очертания, размывая объемы, сливая пространства. Он делал с природой что хотел. Он был зримым воплощением текучего времени. Сезанн же не переставал чувствовать, что под этой вибрирующей дымкой живет относительно прочный мир форм. С другой стороны, он чувствовал, что живет не только воздух и не только свет, что в каждом предмете, сколь бы стабильным он ни был, есть своя живая сила, сила материи, для которой этот предмет лишь временная, хотя и длительно существующая форма, преходящая пауза в вечном движении. И камень стен начинал у него топорщиться острыми ребрами, и крыши начинали прогибаться под собственной тяжестью, и очертания холмов – сминаться и вибрировать. Журчащая, баюкающая умиротворенность импрессионистического пейзажа нарушалась. Мир терял только что обретенную гармонию.
Заметим, кстати, что в портретах Сезанна «импрессионистического периода» этой тихой гармонии и вовсе никогда не было. Под его кистью мягкий интеллигент-мечтатель Виктор Шоке (портрет 1876—1877 гг.; Кембридж, собр. лорда Виктора Ротшильда) превращался в истомленного внутренним, чисто романтическим огнем Дон-Кихота, что особенно бросается в глаза при сравнении этого сезанновского портрета с одновременно выполненным «Портретом Шоке» работы Ренуара (Винтертур, собрание О. Рейнгарта).
«Сезанн никогда не откажется от передачи впечатления, непосредственного ощущения наблюдаемого, что характерно для импрессионизма. Но в то же время он не может отказаться и от своего „компактного“, „комплексного“ видения и не желает ничем пожертвовать от полноты и многообразия своего восприятия. Поэтому его процесс творчества значительно сложнее и совсем иного рода. Он усиливает структурную основательность композиции и материальность предметов. А сверх того его картины обладают зарядом мысли, полной той напряженности, которая чужда импрессионизму»237.
Мудрено ли, что среди импрессионистов Сезанн выглядел беспокойным чудаком, ломящимся в открытую дверь и «желающим странного», «бараном с пятью ногами», как заглазно назвал его Писсарро! Мудрено ли, что сам он уже в 1877 году понял, что на их выставках он лишний.
* * *На рубеже 70—80-х годов «блудный сын» импрессионизма вступает на новый путь. Он все чаще уединяется в Эстаке и Эксе. В 1878 году он пишет Золя, что только теперь «по-настоящему увидел природу». В 1880 году он объясняет причину своего добровольного отшельничества: «Я решил молча работать вплоть до того дня, когда почувствую себя способным теоретически обосновать результаты своих опытов»238.
Что же он в первую очередь противопоставил импрессионизму?
Во-первых, иной метод постижения реального мира. Импрессионизм – это прежде всего живопись изощренно наблюдательного чувства, обостренно наблюдательного глаза. Его лозунг – пишу что вижу и как вижу. Сезанн считал это недостаточным. Нужно, не отказываясь от чувства, усилить значение разума, не только анализирующего явления, но и систематизирующего, синтезирующего их, выявляющего основные законы бытия, проникающего в скрытую архитектуру мироздания. Нужно писать не только ту природу, которую мы видим, но и ту, которую мы знаем. Нужно сделать очевидным для глаза опыт рационалистического познания природы239.
Из этого следует один из важнейших принципов видения Сезанна. Картина должна вмещать не только мотив, нами непосредственно наблюдаемый. Следует добиваться большего – воплощения мира, то есть совокупности известных нам, а не только непосредственно видимых явлений, составляющих столь широкий и полный образ природы, который вовсе не целиком и вовсе не сразу открывается нашему взору.
Значит, нужен и более расширенный угол зрения. Значит, границы изображаемого мира должны быть раздвинуты за пределы неподвижного поля единого взгляда. Отсюда характерный для многих пейзажей зрелого Сезанна (80-х – первой половины 90-х годов) эпический взгляд на мир, широкий разворот пространств, который воспринимается нами не сразу, а лишь в результате перемещения поля зрения вдоль поверхности холста. Отсюда резко возросшая по сравнению с импрессионизмом их глубинность и протяженность. Отсюда же и часто применяемая «высокогорная» точка зрения, когда художник заставляет нас взирать на природу с такой высоты, с какой раскрываются особенно широкие перспективы, особенно зовущие дали. «Меня всегда влекли к себе небо и безграничность природы», – говорил Сезанн в начале 80-х годов.
Это картина природы, воссозданная не в результате единовременного непосредственного наблюдения, а в результате синтеза ряда наблюдений, глубоких размышлений о прошлом, настоящем и будущем мира, расширяющих кругозор, ведущих к истокам бытия Это возрождение принципов синтетического, монументального, потенциально героического пейзажа, процветавшего в XVII веке и потерпевшего крах в XIX столетии перед лицом наступления индивидуализированного, очеловеченного пейзажа Констебля, Коро, Добиньи, импрессионистов.
Из всего этого, в свою очередь, вытекает знаменитое требование Сезанна – «вернуться к классицизму через природу, то есть через ощущение натуры»240. Оно свидетельствует о том, что Сезанн испытывал непреодолимую потребность углубиться к самым истокам системы видения всего искусства Нового времени.
На первый взгляд это парадоксально. Неужели же Сезанн осваивал завоевания импрессионизма и вообще нового пейзажа XIX века только затем, чтобы, разочаровавшись в них, вернуться на стезю той самой ренессансно-классицистической системы, которую XIX столетие уже подвергло справедливому сомнению? Такой вывод иногда делают, злорадствуя, что возврата у Сезанна все равно не получилось, те, кто судит об искусстве только сквозь призму поверхностно понятых высказываний самих художников, не обременяя себя сопоставлением их теоретических формул с их реальным творчеством.
Конечно же, Сезанн не собирался становиться реставратором пуссеновского миропонимания. Он хотел саму эту классическую систему подвергнуть испытанию природой. Выявить ее силу и слабость. И на основе всего этого создать качественно новую, но столь же объемлющую большой мир, как пейзажи XVII столетия, концепцию видения, учитывающую также и опыт искусства XIX века, – в особенности опыт импрессионистического восприятия природы во временном развитии. Пуссен – это, конечно, великолепно. Но Пуссен, «проверенный природой», то есть современным видением, – это еще лучше. В этом суть новейшей классики в отличие от классицизма Нового времени.