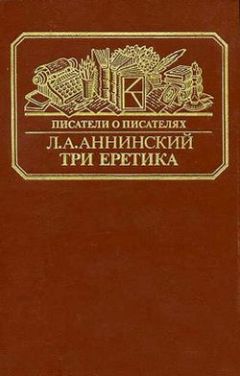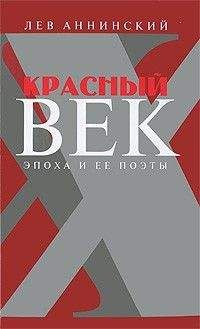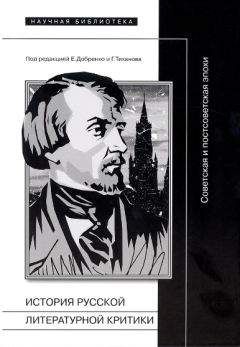Лев Аннинский - Три еретика
С марта 1867 года в «Отечественных записках» она выходит в свет: номер шестой, номер седьмой, номер восьмой…
Конечно, это не роман. Если понимать под романом тот привычный тип повествования, который Лесков применяет в «Некуда», и потом в романе «Обойденные», и в повести «Островитяне», больше похожей на традиционный роман. Позднее, лет через пять, оглядываясь на эти свои полотна, Лесков скажет: до «Соборян» я шатался. Так это потом сделается ясно. Теперь же дорога кажется достаточно прямой, даже накатанной, и только предчувствие говорит автору, какой коренной, глубинный, принципиальный контраст разделяет его новую вещь и старые романы.
Сверху лежит поворот тематический: романы лесковские почти сплошь напитаны опытом столичным: московским, петербургским, европейским, – в хронике же он возвращается к тому, что едва пробивалось у него в очерках: к «памятям» детским, семейным, базисным, к преданиям родной орловщины, к южнорусской земле. Это очень важно, но суть лежит еще глубже – в самом взгляде на человека и на питающую его почву.
Романы Лескова берут частный аспект реальности. Пусть важный, пусть решающий в понимании автора, но – частный, «выделенный». Хроника – попытка охватить «все»: всю русскую реальность по горизонту. Это попытка национального эпоса.
Романы Лескова построены на одном «универсальном» психологическом сюжете: благородная душа страдает от неблагородства: от чьей-то подлости, от своекорыстия либо от пагубы страстей. Умеет ли благородный человек защититься от этих напастей или не умеет (чаще не умеет), но базисом этой концепции служит вера в некое «монолитное», ясное, нерасчленимо последовательное благородство, понимаемое недвусмысленно и однозначно. Оно может быть искажено, использовано во вред или даже побеждено, его может быть человеку недодано – недодано чуть-чуть или недодано крепко, – но само это благородство, сама субстанция, сама изначальная «сумма благодати» – равна себе и неоспорима. В таком понимании абсолюта Лесков идет в затылок классикам, защищавшим дворянский кодекс чести, и налет заемности сильно ощутим в романах Лескова: все эти интеллектуальные тяжбы комнатных умников, томления художников, терзания невинных девушек, подпадающих под власть этих умников и художников, – все это «достает» то до Тургенева, то до Гончарова, то до раннего Достоевского, то до раннего Писемского. Некий «общедворянский стандарт», «общеевропейский», «общечеловеческий»…
И еще: в этих романах нет ощущения… «русскости». «Иностранности» много. Начиная еще от Райнера. И французские соблазны в «Обойденных», и там же козни польских иезуитов, и остзейские ухватки «Островитян», и даже дух санкт-петербургских магазинов, не говоря уже о нигилистских «капищах», которые Лесков продолжает клеймить из романа в роман, – во всем этом нет ни русской окраски, ни русской проблематики. Она названа, она иной раз даже очерчена, – но ее нет в ткани, в дыхании текста. Почти пародийно в «Островитянах» эта русская «особинка» демонстрируется немцами, причем демонстрируется с надутостью, грубейшим нажимом и раздражающим апломбом… Здесь намечена, конечно, будущая коллизия «Железной воли» – очень отдаленно. Но знаменательно. О «русском начале» горланят немцы… Это ощущается в романах Лескова как круг с пустотой внутри, как зияющее отсутствие того, чего уже ждешь. Хотя система ожидания отлажена по всем канонам романистики: с умело заманивающей читателя интригой и с хитрой дозировкой препятствий.
Хроника – это прежде всего отказ от крепкой и ясной интриги: повествование начинает виться прихотливой лентой, как раскручивающийся свиток, как бесконечная непредсказуемая нить.
Это, далее, отказ от упора на внешние «козни». От самой идеи, что начало, чистое и светлое, атакуется чем-то извне. Лесков освобождается от этой идеи с трудом; тени опасных «поляков» и подлых «нигилистов» еще мечутся по хронике, но все чаще возникает догадка: а может, дело не в «кознях»?
Наконец, главное: хроника – это отказ от веры в изначальное, абстрактное, химически чистое благородство, лежащее в основе всей шкалы ценностей. Основа зыблется, контуры дробятся, шкала то и дело кренится на сторону. Отношение повествователя к происходящему вибрирует. Удаль оказывается неотделима от холопьей подлости, молодецкое казакование от духовной лени, доброта идет об руку с ликующей глупостью, а бесшабашное просветление неожиданно возникает на самом дне униженности: прощая насильника, жертва подчиняет его себе и тем самым вгоняет в окончательное рабство, и не различишь, где же тут справедливость, а где новый самообман, где впору автору плакать, где смеяться, а где просто вздыхать вослед Гоголю: Русь, куда же несешься ты…
Разумеется, нужна интуиция гения, чтобы броситься в эти хляби с устойчивых твердынь традиционной романистики. Ориентиры более не работают: ни Тургенев, ни Гончаров, ни Писемский, ни Достоевский. Теперь голос Лескова режуще одинок, и речь его ни на что не похожа. Полубезумные легенды, то бегущие с лихорадочной скоростью от сюжета к сюжету, то возвращающиеся и замирающие, но непременно усыпанные «словечками», чуть не сплошь покрытые «узорочьем» стиля. Никакой пропорциональности и никакой перспективы… О, долго будет привыкать наша критика к этому лесковскому сказыванию и будет гадать: что бы значила эта затейливая форма? А это не форма. Это… содержание. Это глубоко содержательный и совершенно новый тип повествования, при котором интонация рассказчика дробится обертонами, лукавыми, нелогичными, ироничными, чуть не шутовскими оттенками: и так расщепляется в ткани текста сама концепция монолитного, однозначного и уверенно-ясного знания о человеке.
Было ли это новое знание (и форма выражения его) уже освоено Лесковым? Вполне. В очерках, в рассказах, в бывальщинах, шедших необязательным «фоном» к его крупным произведениям. Этой «бывальщины» и не замечал никто, как прохлопали «Леди Макбет Мценского уезда». Они, эти зарисовки с натуры, вечно были затерты программными романами Лескова.
Теперь настает момент поворота: «кусочки» сращиваются в «свиток».
Решение ответственнейшее: «Это будет хроника, а не роман».
«Вещь у нас мало привычная…»
«…Но зато поучимся».
Хроника не имеет «начала». Вернее, она возникает от «начала времен». Старый Город, символизирующий Русскую Землю, не ставится велением князя-завоевателя, он вырастает из Земли как бы сам собой, трудами людей, избравших сие место для жизни. Он есть детище Земли, ставшее во времена доисторические – во дни оны.
То, что в эпическом этом Городе вскоре обнаруживаются сады и домики явно орловского происхождения, не колеблет ощущения, что перед нами всеобщая модель русской Вселенной.