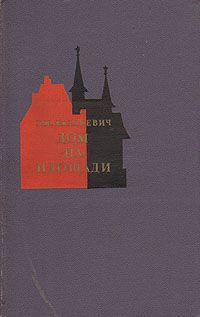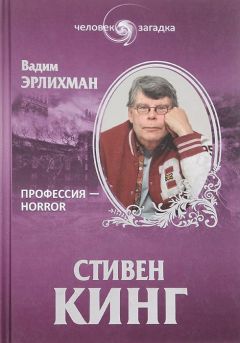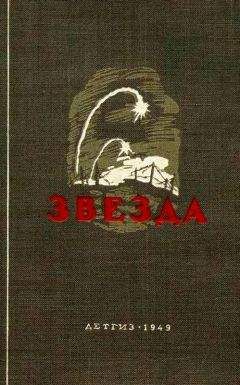Эммануил Казакевич - Дом на площади
- Одно нарушение мы сделали в Польше, - сказал он, помолчав. - Нам положено было поскорее догонять свою часть, а мы остановились в одной деревне. Несколько дней повозились там, да... Домик строили... Вообще мы были даже не солдатами, а совсем свободными людьми, делали все, что хотели.
Лубенцов отошел от двери и опять поднялся наверх. Здесь он послонялся по пустым комнатам, затем пошел в свой кабинет. На столе у него уже лежала гора папок. Он стал их перебирать, ища ту папку. Ему представлялось, что той папки здесь нет, раз нет человека, на которого она составлена.
Но папка была на месте и ничем внешне не отличалась от других.
Лубенцов долго просматривал и перечитывал личное дело Воробейцева. Перечитывал и удивлялся формальности, с какой составляется анкета, и тому, что она ровно ни о чем не говорит. Она фиксирует внешние обстоятельства жизни человека, но о самом важном, о самом сокровенном она молчит, как глухонемая. Более того, она самим своим наличием усыпляет бдительность, успокаивает, располагает к дремоте, как бы намекая на то, что человек, которому она посвящена, не ходит по земле, а в плоско-бумажном виде благочинно стоит в несгораемом шкафу среди других таких же.
Лубенцов постарался вспомнить свою первую встречу с Воробейцевым и дальнейшие впечатления о нем. Да, нет сомнения, что Воробейцев при первом знакомстве и в дальнейшем производил на Лубенцова неприятное впечатление. Но ведь он не старался проверить свое впечатление, ближе присмотреться к Воробейцеву. Он верил в анкету, как старики верят в бога.
Здесь было штук шесть характеристик Воробейцева, подписанных разными начальниками. Краска бросилась Лубенцову в лицо, когда он прочитал медленно, слово за словом - эти характеристики, пустые, ничего не говорящие слова. Один начальник писал: "Энергичен, старателен. Занимаемой должности соответствует". Другой глубокомысленно заметил: "Не свободен от недостатков личного порядка, но занимаемой должности соответствует". "Морально устойчив", - сообщал третий.
Наконец последняя характеристика была подписана не кем иным, как игл же, Лубенцовым. Это была такая же жалкая, ничего не говорящая писанина, как и предыдущие. Правда, тут имелись слова о том, что Воробейцев страдает индивидуализмом и что он груб и самонадеян. Но и здесь были сказаны формальные и безответственные слова о том, что он предан общему делу, занимаемой должности соответствует.
Лубенцов позвонил и велел дежурному забрать папки. Снова оставшись в одиночестве, он стал смотреть в окно, где по-прежнему царила непроглядная темень. Потом его взгляд упал на стол - не на письменный, а на приставленный к нему длинный стол, покрытый зеленой скатертью. На этом столе, рядом с пустым графином, лежала скомканная бумажка. Не спуская с нее глаз, Лубенцов встал и пошел к ней, взял ее, медленно разгладил и стал читать.
Воробейцев, этот подлый шут, говорил в высокопарных выражениях и, несмотря на то что он только один день как находился вне рядов русской армии, уже выражался как-то не по-русски, странными, словно переведенными с иностранного языка фразами. С этой бумажки веяло тем же затхлым, кислым, отвратительным запахом, запахом измены, который обдал Лубенцова в квартире Воробейцева. Воробейцев сказал, что он просит политического убежища, так как из-за политических несогласий с коммунистической партией и Советским правительством скрылся из советской зоны. Это было бы смешно, если бы в мотивировке бегства не присутствовало столько подлого. Воробейцев объяснял, что удрал потому, что в Советском Союзе нет свободы; что в высшие учебные заведения там принимают только коммунистов и комсомольцев; что все там получают только половину заработной платы, а вторая половина идет в пользу ГПУ; что ярким доказательством рабства, существующего в Советском Союзе, может явиться то, что комендантом города Лаутербурга было категорически приказано всем офицерам немедленно жениться; что советские власти в Германии решили арестовать всех учителей; что советские солдаты забирают машины у немецкой интеллигенции, а советские власти, потворствуя им, не принимают против этого никаких мер.
Кончив чтение, Лубенцов положил бумажку на стол и стал ходить по комнате, собираясь с мыслями.
Он все еще не мог поверить, что тот ел, пил, ходил вот здесь, по этим пластинкам паркета, от двери к столу и от стола к двери, вот по этим самым пластинкам, что он сидел на этом самом диване, козырял, разговаривал одним словом, притворялся человеком. Но как ни трудно было себе это представить, так оно было, и следовало все это трезво оценить, следовало выяснить причины.
Никогда еще мозг Лубенцова не работал так напряженно. Трудно было собрать мысли, поставить их на свои места, составить для себя ясную картину происшедшего и свою роль в ней, в этой картине. Кто же он, Лубенцов? Человек, ничего не видевший, не замечавший, благодушествующий, довольный собой? Или человек здоровый, нормальный, верящий в людей, не могущий себе представить всей глубины подлости, на которую плохой человек способен? Тут только впервые Лубенцов стал думать о том, как может случай с Воробейцевым отозваться на его, Лубенцова, судьбе. Да, у него защемило сердце, потому что он высоко ценил свою воинскую репутацию и стремился к ее чистоте. Но не это сейчас было главным. Важнее всего было уяснить себе весь ход событий, понять причины происшедшего.
В разгар этого придирчивого и жестокого разговора с самим собой Лубенцов услышал негромкий скрип открываемых дверей. В полутемном прямоугольнике появилась фигура Касаткина. Когда Касаткин подошел ближе и Лубенцов увидел его угрюмое и измученное лицо, он преисполнился чувством раскаяния и сострадания и сказал:
- Вы были правы, Иван Митрофанович.
Но Касаткин отмахнулся от этой попытки поговорить по душам и сказал:
- Я считаю нужным немедленно арестовать капитана Чохова. Они были друзьями, вместе прибыли, вместе проводили время. Есть сведения, что Чохов бывал у Меркера на квартире вместе с ним... с Воробейцевым и получил от Меркера мотоцикл. Кроме того, - продолжал Касаткин очень твердым голосом, глядя мимо Лубенцова, - я считаю, что отъезд профессора Себастьяна - наша большая ошибка. - Он сказал "наша", хотя, разумеется, хотел сказать "ваша". - Себастьян не вернется. Есть сведения, что у него недавно побывали высокопоставленные американцы, которые вместе с его сыном уговорили его бежать на запад. В порядке предупреждения я считаю необходимым подвергнуть аресту дочь Себастьяна и ряд лиц, наиболее связанных с ней. Мое мнение разделяет и генерал Куприянов, с которым я только что говорил по телефону.
Он говорил тихо, но твердо, почти начальническим тоном, так как, видимо, считал, что Лубенцов, совершив серьезную ошибку, был так виноват перед Касаткиным, все предусмотревшим и обо всем предупредившим, что потерял право возражать.