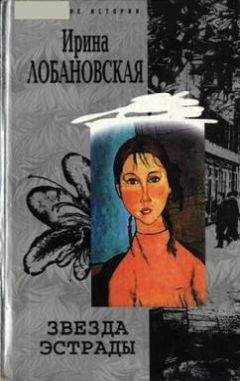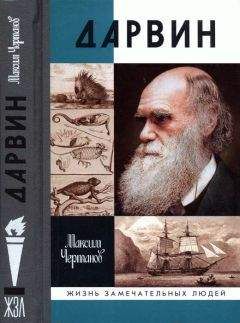Максим Чертанов - Диккенс
Форстеру, 22 декабря: «Залы здесь первоклассные. Представьте себе залу на две тысячи человек, причем у каждого отдельное место и всем одинаково хорошо видно. Нигде — ни дома, ни за границей — я не видел таких замечательных полицейских, как в Нью-Йорке. Их поведение выше всякой похвалы. С другой стороны, правила движения на улицах грубо нарушаются людьми, для блага которых они предназначены. Однако многое, несомненно, улучшилось, а об общем положении вещей я не тороплюсь составлять мнение. Добавим к этому, что в три часа ночи меня соблазнили посетить один из больших полицейских участков, где я так увлекся изучением жуткого альбома фотографий воров, что никак не мог от него оторваться».
В прошлый раз его взбесили американские газеты, помните «Чезлвита»: «„Нью-йоркская помойка“! — кричал один. — Утренний выпуск „Нью-йоркского клеветника“! „Нью-йоркский домашний шпион“! „Нью-йоркский добровольный доносчик“! „Нью-йоркский соглядатай“! „Нью-йоркский грабитель“! „Нью-йоркский ябедник“!» Теперь американская журналистика повзрослела, общий тон газет резко изменился, они стали гораздо солиднее, выдержаннее, ответственнее, а «Трибюн», «Нью-Йорк геральд», «Нью-Йорк таймс» и «Брайентс ивнинг пост» Диккенс нашел почти не уступающими английским газетам, хотя литературные их достоинства его не впечатлили.
Джорджине, 4 января: «Хотя в здешних газетах меня фамильярно называют „Диккенсом“, „Чарли“ и еще бог весть как, я не заметил ни малейшей фамильярности в поведении самих журналистов. В журналистских кругах царит непостижимый тон, который иностранцу весьма трудно понять. Когда Долби знакомит меня с кем-нибудь из газетчиков и я любезно говорю ему: „Весьма обязан вам за ваше внимание“, — он кажется чрезвычайно удивленным и имеет в высшей степени скромный и благопристойный вид. Я склонен полагать, что принятый в печати тон — уступка публике, которая любит лихость, но разобраться в этом очень трудно. До сих пор я усвоил лишь одно, а именно, что единственно надежная позиция — это полная независимость и право в любой момент продолжать, остановиться или вообще делать все, что тебе заблагорассудится».
Седьмая и восьмая недели прошли в Филадельфии и Бруклине (где Диккенс читал в церкви знаменитого протестантского проповедника Уордо Бичера). Форстеру, 14 января: «Я вижу большие перемены к лучшему в общественной жизни, но отнюдь не в политической. Англия, управляемая приходским советом Мэрилебон и грошовыми листками, и Англия, какою она станет после нескольких лет такого управления, — вот как я это понимаю. В общественной жизни бросается в глаза изменение нравов. Везде гораздо больше вежливости и воздержанности… С другой стороны, провинциальные чудачества все еще удивительно забавны…» (Перемен и впрямь было немного. Эндрю Джонсон, ставший президентом после убийства Линкольна, порвал связь с избравшей его партией и с такой мягкостью относился к побежденным южанам, что можно было опасаться утраты всех приобретенных войной результатов. Он наложил вето на принятый конгрессом билль об условиях обратного допущения южных штатов в Союз.)
Дальше (девятая и одиннадцатая недели с перерывом на Вашингтон) — Балтимор, где обнаружилась совершенно великолепная тюрьма, в которой заключенные работали в мастерских и получали за это зарплату, — ничего подобного Диккенс еще нигде не видел. Но рабство, по его мнению, не выветрилось, а идея предоставить неграм избирательное право (после Гражданской войны в Конституцию была внесена 15-я поправка, которая гарантировала право голоса чернокожим мужчинам) казалась бессмыслицей. Форстеру, 30 января: «Замечательно видеть, как Призрак Рабства преследует город и как вялость, грязь, леность и заторможенность давят в нем на свободную жизнь, заставляя бесконечно бродить вокруг нее, но не жить ею… Печальная нелепость предоставления этим людям голосов, во всяком случае в настоящее время, очевидна, стоит только посмотреть на их беспрестанно моргающие глаза, хихиканье и трясущиеся головы (поскольку невозможно не видеть этого в этой стране), как становится очевидно, что предоставление избирательных прав — простой фокус, чтобы получить голоса».
Вообще-то любое предоставление избирательных прав кому бы то ни было — способ получать голоса; но то, что негры (или, к примеру, женщины) могли бы своими голосами осмысленно распорядиться, не казалось Диккенсу возможным. Нельзя сказать, что он стал таким уж расистом, нет, он описал Форстеру случай, когда в Нью-Йорке в зал, где он читал, вошли две женщины, отлично одетые, с едва уловимым темным оттенком кожи, и белый мужчина громко отказался сидеть рядом с «этими черномазыми» и потребовал поменять ему билет, а Долби ему очень жестко отказал; но то все-таки были элегантные женщины, а не существа с «беспрестанно моргающими глазами, хихиканьем и трясущимися головами»… В той самой образцовой тюрьме в Балтиморе «белые заключенные обедают в одной стороне комнаты, цветные заключенные в другой; и никому не приходит в голову смешать их. Это несомненный факт, что от многих цветных, собранных вместе, исходят не самые приятные запахи, и я был вынужден быстро ретироваться из их спального помещения». Завершил он письмо предположением, что «негры быстро вымрут в этой стране, так как невозможно представить, что они смогут когда-либо выстоять против активной, более сильной расы…». (Известно, что Диккенс читал Дарвина, хотя вряд ли понял и принял его по-настоящему.)
В конце января 1868 года он выступал в Вашингтоне; к этому времени его здоровье совсем расстроилось, намеченные чтения в Чикаго и Сент-Луисе пришлось отменить и взять небольшой тайм-аут. (Денег к тому моменту заработали уже больше 10 тысяч фунтов.) Президент Эндрю Джонсон дважды приглашал его в Белый дом; визит состоялся 7 февраля, а в конце февраля Джонсон уволил военного министра без согласия сената, и палата представителей постановила начать судебное преследование против президента и процедуру импичмента: разумеется, это событие отвлекло американцев от всего остального, включая и выступления Диккенса. Пришлось опять прерваться — он лишь один раз выступил в Провиденсе, зато судил соревнование по спортивной ходьбе на 13 миль между Долби и американским издателем Джеймсом Осгудом.
В марте были Сиракузы, Рочестер, Буффало, Олбани, Портленд и Мэн; все это время Диккенс страдал из-за вновь распухшей ноги и жаловался на непрекращающуюся простуду; каждую ночь его мучил многочасовой приступ кашля. Форстеру: «Я попробовал аллопатию, гомеопатию, холодное, теплое, сладкое, горькое, стимуляторы, наркотики — все с одним и тем же результатом. Ничто не помогает». К концу месяца он вновь стал прибегать к лаудануму — сон наладился, но по утрам тошнило. Форстеру, 31 марта: «Я почти уничтожен… если все это будет продолжаться до мая, думаю, мне придет конец…» Он был болен, взвинчен и совершенно перестал нормально питаться. 7 апреля описал в письме Мэйми свой странный рацион: «В семь утра, в постели, стакан сливок и две столовые ложки рома. В двенадцать — херес и печенье. В три (обеденное время) — пинта шампанского. Без пяти минут восемь вечера — взбитое яйцо со стаканом хереса. В промежутках крепкий бульон. В четверть одиннадцатого — суп и никакой выпивки. Я съедаю не более чем полфунта твердой пищи за целые сутки».