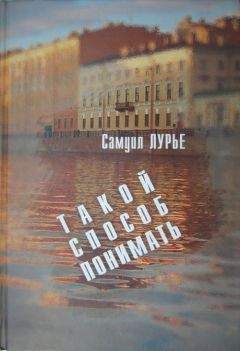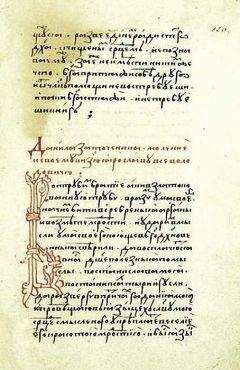Самуил Лурье - Литератор Писарев
— Мне даровано высочайшее разрешение заниматься литературными трудами. А теперь я лишен всяких средств им воспользоваться.
— Разрешение высочайше отменено раз и навсегда. Еще какие имеете жалобы?
— Да что случилось-то?! — громко вскрикнул Писарев, изо всех сил удерживая нервическое рыданье. — Скажите хоть, что я такого сделал!
— Надо говорить — ваше высокопревосходительство, — мягко напомнил Сорокин, — бог с вами, прощаю последний раз. А случилось, изволите ли видеть, неслыханное злодейство. Четвертого сего апреля неизвестный человек на набережной у решетки Летнего сада стрелял в государя императора.
— И ваше высокопревосходительство полагаете, что это был я? — усмехнулся Писарев.
— Государь невредим, — словно не услышав, монотонно продолжал Сорокин. — Бог спас: простой русский мужичок отвел руку убийцы. Преступник схвачен, сидит у нас в крепости — видите, я от вас ничего не скрываю, — граф Муравьев его допрашивает.
Писарев старался дышать беззвучно.
— Преступник сперва назвался крестьянином Петровым, потом, кажется, Владимировым. Наконец обнаружилось, что его фамилия Каракозов, он дворянин. По некоторым сведениям — в родстве с известным Огаревым… Вот и все, — внезапно отрезал Сорокин. — И говорю я вам это только потому, что вы-то уж никому ничего не расскажете до самого конца срока заключения. Свиданий больше не будет, а сидеть вам еще, драгоценный друг, ой как долго.
— Чем же виноваты моя мать и сестры? — глухо спросил Писарев. — Их-то за что казнить?
— Прекрасно, — похвалил его комендант Сорокин. — Прекрасно, что вы такой заботливый сын и брат. А еще лучше, что не спрашиваете, чем виноваты вы сами. Я, признаюсь, ожидал этакой, знаете, игры в невинность. Вы ведь у нас немного того, иезуит, не правда ли? Ах, мой незрелый ум! Ах, болезнь душевная! Головка бо-бо! Не отнимайте единственного лекарства: дайте книжечку заграничную почитать и по ней статейку тиснуть. От статейки моему семейству прибыль, а русскому юношеству — польза. Вот она, польза, вся теперь налицо!
— Это все, должно быть, очень остроумно… ваше высокопревосходительство. Боюсь, однако, что связь ваших идей даже для зрелого ума неуловима. На всякий случай заверяю, что фамилию — Каракозов — слышу в первый раз.
— Вот видите! — восхитился Сорокин. — Одна у вас погудка: знать не знаю, ведать не ведаю. О Каракозове слышите впервые, какой паинька. Ну а Рахметов?
— Что Рахметов? Никакого Рахметова не существует, это вымышленное лицо, персонаж романа.
— И верно. Как я запамятовал? Вы еще панегирик роману этому напечатали. Новый тип людей обнаружили там и превознесли. А роман назывался как?
— Вы на ложном пути, ваше высокопревосходительство, — нехотя сказал Писарев. — Случайное, отдаленное сходство фамилий ничего не доказывает. Да и сходства нет. Это все равно, что Орлов и… Воронов, или Гусев.
— Или Сорокин, правильно? — подхватил комендант. — Язык-то у вас, я гляжу, побойчей шевелится, ежели хвост прижать. Но вы не ответили, как находите название «Что делать?». Ведь чудесное, согласны? Для всех шалопаев и недоучек, для всех праздношатаек, для умственного-то пролетариата — чего же лучше? Полдня поваляться в постели, журнальчик листая, — и к обеду превзойдешь науку жизни. Кто недоумевал, чем бы ему заняться, — враз поймет! А у Чернышевского не вычитает — Писарев подскажет. Вот, мол, что надо делать: прежде всего купите-ка пистолет…
— Господи, какая дичь! То есть, я хотел сказать, ваше высокопревосходительство, что теперь, после реформы судопроизводства, подобное обвинение полагается доказывать. Это прежде…
— Прежде? — тоненько пропел инженер-генерал Сорокин. — Прежде, мой драгоценный, арестанты не писали романов, ни статей, не проповедовали на всю Россию… Надеюсь, и впредь не будут, а пока что мы с вами обойдемся без адвокатов, без присяжных, по-домашнему. Я ведь не препираться сюда пришел, а единственно предупредить: овечья шкурка более вам не пригодится, никого не обморочите. Не питайте надежд, не пишите слезниц, и вообще постарайтесь, чтобы я о вас хоть на время позабыл. Я не позабуду, а вы все-таки постарайтесь, не шутя говорю.
— Только из-за того, что какой-то несчастный безумец или фанатик, неизвестно даже по какой причине, попытался…
— Опять за свое. Это вам-то неизвестно? А извольте-ка припомнить, какое число проставлено на последней странице романа «Что делать?». Под каким числом у него «Перемена декораций»? Не четвертое ли там апреля?
— Рукопись окончена в такой-то день, только и всего.
— Разумеется. А убийца выбрал этот самый день случайно или по наитию?
— Несчастное совпадение.
— Ах, так? Ну, вам виднее. Стало быть, вы не думаете, что чудовищный умысел был негодяю внушен чтением некоторых журналов?
— Я думаю, ваше высокопревосходительство, что это самая нелепая и вздорная клевета. Литература не обучает убийствам.
— Вон что… Ай-ай-ай! А его сиятельство граф Муравьев такой простак, поверил клевете. Требует уничтожить ваше «Русское слово», и «Современник» заодно, чтобы духу их не было. А сотрудников мне передает одного за другим: держите их, говорит, Алексей Федорович, построже. Скорее лягу в гроб, говорит, чем оставлю неоткрытым это зло. Тут не один человек, тут многие действовали. А я ему, как человек необразованный: правда, говорю, ваше сиятельство, подстрекатели опасней исполнителей, а мы их щадим. Есть у меня арестантик: тоже на цареубийство покушался — на словах, о, только на словах, в листке подметном, — так этот заключенный, говорю, с дозволения светлейшего князя почти три года излагал печатно свои воззрения обо всем на свете, о чем хотел. Так вы хоть теперь позаботьтесь о нем, просит меня граф. Я, натурально, обещал.
Он замолчал, отдуваясь. Молчал и Писарев.
— Напоследок, — заговорил опять комендант, и в руке его оказался листок бумаги, — я должен передать вам поклон от вашего божка, от Герцена.
— Мы незнакомы с господином Герценом.
— Это известно. Только портретик его держали на столе. Ну и читали, конечно. А он — вас. И вот что пишет. — Комендант откашлялся. — «Зерна царского посева не пропадают и на каторге, они прорастают толстые тюремные стены и снегом покрытые рудники». Что, скажете, не о вас?
— Вот не знал, что в крепости получается «Колокол».
— Нарочно выписку взял из Третьего отделения. Послушайте далее: «Для этой новой среды хотим мы писать и прибавить наше слово дальних странников — к тому, чему их учит Чернышевский с высоты позорного столба, о чем говорят подземные голоса из царских кладовых, о чем денно и нощно, — Сорокин поднял палец, — проповедует царская крепость — наша святая обитель, наша печальная Петропавловская лавра на Неве». Как же не о вас?