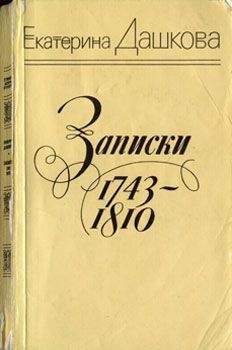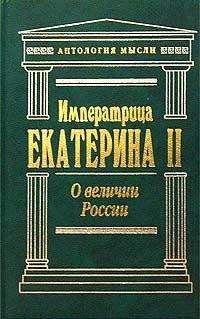Екатерина Великая - О величии России. Из «Особых тетрадей» императрицы
Я потребовала у него подробностей об этом лихоимстве и вымогательстве и узнала, что никакого казнокрадства тут не могло быть, так как у него на руках не было денег великого князя, а лихоимством считали то, что так как он стоял во главе департамента юстиции, то во всяком судебном деле всегда бывает один истец, который жалуется на несправедливость и говорит, что противная сторона выиграла только потому, что щедро заплатила судьям.
Но сколько ни выставлял Брокдорф напоказ все свое красноречие и свои познания, он меня не убедил; я продолжала утверждать Брокдорфу в присутствии великого князя, что стараются склонить Его Императорское Высочество на вопиющую несправедливость, убеждая его послать приказ, дабы велеть арестовать человека, против которого не существует ни формальной жалобы, ни формального обвинения.
Я сказала Брокдорфу, что таким манером великий князь может и его засадить в тюрьму каждую минуту и также сказать, что преступления и обвинения придут после, и что в судебных делах нетрудно понять, что тот, кто теряет процесс, всегда кричит, что его обидели.
Я прибавила, что великий князь должен остерегаться больше, чем кто-либо, таких дел, ибо ценою собственного опыта уже научился тому, что могут сделать преследование и ненависть партии; прошло не более двух лет с тех пор, как, по моему ходатайству, Его Императорское Высочество велел выпустить Гольмера, которого держали в течение шести или восьми лет в тюрьме затем, чтобы заставить его дать отчет в делах, которые велись во время опеки над великим князем и во время управления его опекуна, наследного шведского принца, при котором Гольмер состоял и за которым последовал в Швецию, откуда он даже вернулся лишь тогда, когда великий князь подписал и отправил по всей форме одобрение и свидетельство в пользу всего, что было сделано во время его несовершеннолетия; несмотря на то, однако, побудили великого князя арестовать Гольмера и назначить комиссию для расследования того, что было сделано во время управления шведского принца; эта комиссия действовала вначале с большою энергией, открыв свободное поле доносчикам, и, однако, не найдя таковых, впала в летаргию за недостатком пищи; а между тем в это время Гольмер томился в тесной тюрьме, куда не разрешали доступа ни его жене, ни его детям, ни его друзьям, ни его родственникам, и в конце концов вся страна стала роптать на несправедливость и на тиранию, к каким прибегли в этом деле, которое действительно было вопиющим и которое бы еще не закончилось так рано, если бы я не посоветовала великому князю разрубить гордиев узел, отправив приказ выпустить Гольмера и упразднить комиссию, которая, кроме того, стоила немало денег и без того очень пустой казне великого князя в его наследственной земле.
Но хоть я и привела этот разительный пример, великий князь, я думаю, слушал меня, мечтая о другом, а Брокдорф, с очерствевшим от злобы сердцем, ума очень ограниченного и упрямый, как чурбан, не мешал мне говорить, не имея других доводов; но, когда я вышла, он сказал великому князю, что все, что я говорила, вытекало лишь из того принципа, какой мне внушало желание властвовать, что я не одобряю никаких мер, относительно которых не давала совета, что я ничего не понимаю в делах, что женщины всегда хотят во все вмешиваться и что они портят все, чего касаются, что в особенности действия решительные им не под силу; наконец, он столько наговорил и наделал, что восторжествовал над моим мнением, и великий князь, убежденный им, велел составить и подписать приказ, который был отправлен, чтобы арестовать Элендсгейма.
Некто Цейц, секретарь великого князя, состоявший при Пехлине и зять акушерки, служившей мне, уведомил меня об этом; партия Пехлина вообще не одобряла этой насильственной и неуместной меры, посредством которой Брокдорф заставлял трепетать и их, и всю Голштинию. Как только я узнала, что происки Брокдорфа в деле столь несправедливом взяли верх надо мною и над всем тем, что я могла представить великому князю, я приняла твердое решение дать вполне почувствовать Брокдорфу мое негодование.
Я сказала Цейцу и велела сказать Пехлину, что с этой минуты я смотрю на Брокдорфа, как на чуму, от которой надо бежать и которую следует удалить от великого князя, если бы это было возможно; что я лично употреблю все усилия, какие только могу, для этого. Действительно, я старалась показать при всяком случае, как публично, так и частным образом, презрение и отвращение, которые мне внушило поведение этого человека; не было тех насмешек, какими бы я его не осыпала, и я отнюдь ни от кого не скрывала, когда представлялся к тому случай, что я думаю на его счет. Лев Нарышкин и другие придворные молодые люди помогали мне в этом.
Когда Брокдорф проходил по комнате, все кричали ему вслед: «Баба-птица, баба-птица!» – это было его прозвище; птица эта была самая отвратительная, какую только знали, и как человек Брокдорф был точно так же омерзителен своею внешностью, как и внутренними качествами. Он был высок, с длинной шеей и тупою плоской головой; притом он был рыжий и носил парик на проволоке; глаза у него были маленькие и впалые, почти без ресниц и без бровей; углы рта опускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид.
Относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала; но прибавлю еще, что он был так порочен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать, и, чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая голштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I.
Сверх того, Брокдорф вовлекал великого князя более, чем когда-либо, в пьянство и в кутежи, окружив его сбродом авантюристов и людей, добытых из кордегардии и из кабаков, как из Германии, так и из Петербурга, людей без стыда и совести, которые только и делали, что ели, пили, курили и болтали грубый вздор.
Видя, что, несмотря на все, что я говорила и делала против Брокдорфа, чтобы уменьшить его влияние, он все-таки держится у великого князя и более, чем когда-либо, в милости, я решила сказать графу Александру Шувалову, что я думаю об этом человеке, прибавив к этому, что я считаю этого человека одним из самых опасных существ, каких только можно приставить к молодому принцу, наследнику великой империи, и что, по совести, я принуждена поговорить с ним об этом по секрету, дабы он мог предупредить императрицу или принять те меры, которые найдет подходящими.