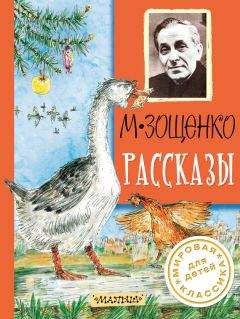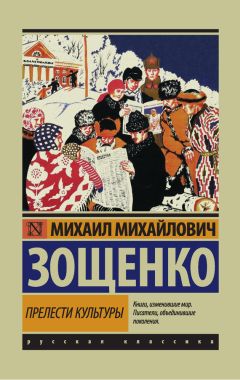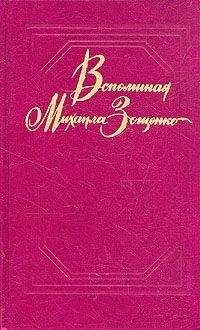Валерий Попов - Зощенко
Гражданская панихида мерно шла своим чередом. Все произносили прекрасно-возвышенные слова о стойкости, смелости, огромном таланте, редкой доброте, о непоправимой утрате, которую понесла отечественная словесность. Дали слово ленинградскому писателю Леониду Борисову. Он, в числе других добрых слов, сказал, что Зощенко был патриотом, что не единожды он получал приглашение переехать на жительство за границу, но он не мыслил жизни вне России. И тут внезапно тишину прорезал визгливый вскрик поэта Прокофьева, вступившего в “полемику” с Борисовым. По залу прокатился возмущенный шорох. Конец панихиды был смят. Я вышла из зала. В кулуарах было полно людей. Они стояли, сидели на диванах, на стульях, на подоконниках. Рядом кто-то возмущенно шептал: “Какое надругательство… На Литераторских мостках не разрешили хоронить. Привезли тело из Сестрорецка и обратно в Сестрорецк повезут хоронить…”
Вскоре раздался перестук молотков. Закрытый гроб поплыл по комнатам и коридорам Дома писателей.
Мы — Дима Поляновский, мой сокурсник по институту Репина Виктор Носкович, жена Виктора художница Нина Лекаренко, которая в молодые годы в течение почти десяти лет была близко знакома с Зощенко, — поймали какую-то машину, шофер которой согласился отвезти нас к Сестрорецкому кладбищу. Туда приехало сравнительно немного людей. Лучше всех говорили Шостакович и Берггольц».
Лучшие люди!.. Но почему-то лучшие люди появляются на похоронах, и не раньше… Нет чтобы сказать все эти добрые слова, пока человек еще может их слышать… Но почему-то не положено.
«Подошел Валя. Звал на поминки, — продолжает Леонтьева. — Но идти в дом без хозяина казалось немыслимым. Мы доехали до Лисьего Носа и в придорожной столовке вчетвером помянули Михаила Михайловича».
Те, кто любит Михаила Зощенко (а таких много), и сейчас ходят к нему на сестрорецкое кладбище. Вот рассказ об этом замечательного — причем именно смешного — художника Георгия Ковенчука, иллюстрировавшего и книги Зощенко:
«Сухой косогор, поросший ровными сосенками. Сквозь них поблескивает колея железной дороги. За коротеньким мостиком виднеется полустанок. Хорошее место. Скромное, я бы сказал интеллигентное, надгробие: гранитная вертикальная плита с небольшим бронзовым профилем писателя, золотые буквы:
Михаил Михайлович Зощенко 1895–1958Рядом могила с надписью на маленькой плите:
Вера Владимировна Зощенко 1898–1981Тут же еще одна, свежая, на земляном холмике пластмассовые цветы, типовой венок и надпись:
Зощенко Валерий Михайлович 1921–1988Мы посидели на скамеечке, на память я сделал рисунок этих трех могил (ошибочный год рождения писателя на надгробии был указан по паспорту. — В. Я.)».
В общем — писатель Михаил Зощенко и после смерти оказался отдельно от своих коллег, и лежит не там, где ему положено было бы лежать — на Литераторских мостках… Но он все равно — победил: теперь мы и его глазами видим то время. А многое из того, что когда-то гремело, «звенело медью», издавалось огромными тиражами, — ушло.
Лучшее, что написано на смерть Михаила Зощенко — стихотворение Анны Ахматовой, его «подельницы»:
М.З.
Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят…
ЗОЩЕНКО НАВСЕГДА
И что же произошло дальше? Как пишет Даниил Гранин (Гранин Д. Мимолетное явление // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник): «Никто и не раскаялся и не повинился. Теперь все вспоминали о Зощенко так, словно все они были закадычные его друзья. А кто же мучил его? Непонятно».
… Все понемножку. Сколько сделал для него Корней Чуковский, написал лучшие о нем воспоминания… А — при жизни? А в самом конце ее? Сказал: «На вечер Горького Зощенко не пускать — уж больно одичал».
И это — знаменитый Чуковский, «друг детей»! Что уж об остальных говорить?!
Вот как описывает Гранин очередной юбилейный вечер Зощенко, который он вел (Гранин Д. Мимолетное явление // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник):
«На сцене стоял большой портрет М.М. Зощенко, под портретом — корзины цветов. Я открывал торжественное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. И мне хотелось отыскать там, слева, у стены, себя молодого. Или хотя бы моих соседей. Впрочем, кое-кто из сидящих в зале должны были вспомнить, я высмотрел некоторых, они громко хлопали, смеялись, милые горячие почитатели выдающегося советского сатирика. Один из них сидел в третьем ряду, солидный, в перерыве подошел ко мне:
— Прекрасный вечер. Я бы тоже хотел выступить и поделиться.
— О чем?
— Ну, как же, ведь уже немного осталось нас, тех, кто близко знал Михаила Михайловича.
— А вы помните, как тут его прорабатывали? Он наморщил лоб, потом обрадованно закивал:
— Как же, еще бы.
— Тогда вы его не поддержали, не аплодировали ему.
Он изумленно посмотрел на меня, улыбнулся снисходительно:
— Что вы, тогда это нельзя было.
— А теперь можно?
— Можно и нужно, — назидательно сказал он, — справедливость восторжествовала, и мы должны…
— Вы об этом хотите сказать?
— Нет, зачем, я лучше расскажу, как мы дружили, я ведь ему шкаф одолжил.
— На следующем юбилее, — сказал я. — У нас уже все полно.
— Что значит полно? — оскорбленно подхватил он и весь изготовился к бою.
— Видите ли, — тихо сообщил я, — список выступающих согласован.
Это он понял, тут он возражать не посмел, и мы разошлись.
На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках “Серапионовых братьев”, о вещах веселых, трогательных. Ведь был тот же зал ленинградского Дома писателя. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амуры, такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Как и тогда, зал был битком набит, толпились в дверях, стояли вдоль стен.
Никого из тех, что проводили то собрание, не было уже в живых. Почему так бывает, думал я, что, когда приходит время, устыдиться уже некому и спросить не с кого…
Из выступлений получалось, что те известные события доконали М.М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Попробовал процитировать его выступление… И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, исчез, неразличимо расплылся, осталось впечатление».