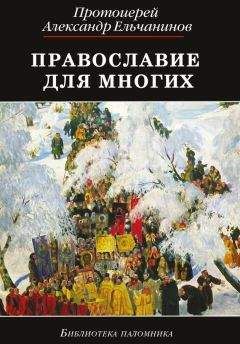Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
Но наша дружба на этом кончилась. Мне трудно уже было запросто забегать к ней в комнату. Я не могла откровенничать с ней о всяких личных переживаниях, умалчивая о тайне, нас связавшей и разделившей. Поняв, что страшных последствий от моего безумия, кажется, не произойдет, я все-таки отстранилась от Нины. Мы остались добрыми соседями, расположенными друг к другу сверстниками, но не больше. У нас еще будет несколько сближений — в самом начале войны и в ее конце, но ничего похожего на пламень чувств сорокового года уже никогда не возобновится. И я навсегда благодарна Нине за ее взрослый ум, за спасение нашей семьи. Но дорого дала бы узнать, что она-то почувствовала, получив такое письмо, как решила эта правоверная комсомолка его не заметить, о чем думала, читая его. Я никогда этого не узнаю. Время упущено. Да и подозреваю, что Нина и сейчас сделала бы вид, что никакого письма не было. Впрочем, ей уже не до старых писем. Она давно лежит, не вставая, мучаясь страшными болями, и спрашивает нашу Лёлю как врача: «А это долго может еще длиться?»
29Последняя предвоенная зима внесла некоторые изменения в наш бытовой уклад. По моему настоянию и с помощью моих уговоров мама решилась наконец расстаться не только с не любимой всеми нами домработницей Верой, но и вообще в принципе отказаться от института прислуги. Я доказала маме, что нам будет проще и выгоднее самим вести хозяйство, что все мы выросли и сумеем справиться и с едой, и с бельем, и с уборкой. Подтолкнули маму к окончательному решению сплетни соседей, доносивших, что Вера тайком готовит для себя пищу отдельно, на наши деньги, но куда более вкусную и питательную. При изгнании Веры мы, дети, не присутствовали, а торжествовали все одинаково. Как просто! Зачем мы терпели рядом с собой чужого, не любящего нас человека? Я старалась, как могла, взять на себя основную тяжесть хозяйственных забот, но, по правде говоря, не помню, чтобы они меня очень уж обременяли. Быт наш был прост и непритязателен. Я постепенно становилась в доме чуть ли не хозяйкой и даже распорядительницей семейного бюджета. «Мама, давай мы будем жить, не делая долгов? Обойдемся. Надо только вовремя считать оставшиеся деньги». И стали обходиться. Наученная унижениями детства, я никогда в жизни ни у кого не брала денег в долг. И, кажется, все мы трое — с братом и сестрой — так жили.
Вторым новшеством предвоенной зимы был уход из школы Тамары. Уже в восьмом классе она стала плохо учиться, и перед девятым мама набралась мужества с ней объясниться: раз не хочешь учиться, иди работать и живи самостоятельно. Я и этого разговора не слышала, мама только мне о нем сообщила. А Тамара уход из школы приняла с облегчением. Она тут же устроилась работать чертежницей, чертила она и в школе прекрасно. К этому времени ее старшая сестра вышла замуж, а мать вернулась из ссылки. Они остались в комнате вдвоем.
А в наших привычках уход Тамары из школы почти ничего не изменил. Так она приходила к нам после двух или трех часов, а теперь стала приходить после шести. Вечерний чай все равно пили все вместе, все, кто находился к этому времени в нашем доме. У нас по-прежнему постоянно толпился молодой народ. Правда, отпал Павлик, почти исчез Роберт, но со школьными друзьями, кажется, мы еще больше сблизились: все те же совместные занятия, все те же разговоры, все те же прогулки вечером по Арбату.
Конечно, мы стали другими. Мы выросли.
Мы уже думали о своем будущем. Тамара мечтала только о театре. Дима склонялся к чему-нибудь техническому, хотя, впрочем, хорошо рисуя, не исключал для себя и архитектуры. Оба Алеши явно выделялись математическими способностями. Ясно было, что судьба Андрея Туркова — литература. Маленькая Лёля уверенно знала, что будет врачом. А я? С упоением и ежедневно я писала и писала свой дневник, описывая и школьные происшествия, и впечатления от книг, и свое отношение к политическим событиям. Я с взволнованным чувством прочитала «Волшебную гору» Томаса Манна, вряд ли понимая смысл романа, но догадываясь о неведомой мне до сих пор изысканной тонкости мысли. Однако, по моде тех лет я не исключала из возможностей своего будущего и чего-нибудь более мужественного и героического, чем литература. Дальние путешествия еще совсем по-детски манили меня, и я подумывала, не податься ли мне в геологи. Этого не исключал для себя и Алеша Стеклов. Я ли подражала ему в своих мечтах, он ли мне? А пока обнаружилось, что он не только любит поэзию, но и сам пишет стихи. Писал их и Андрей Турков. Оба мальчика просвещали меня чтением стихов — не своих, нет, а любимых поэтов.
Надо признаться, что наш с Андреем поэтический вкус был очень консервативен. Нас совсем не коснулось типичное для тех лет увлечение Маяковским. «Тихонов, Сельвинский, Пастернак» — это было не про нас. Мама в годы своей богемной юности, конечно, посещала модные в те времена выступления поэтов и любила рассказывать нам о грубых и остроумных репликах Маяковского, о скандальных появлениях на эстрадах Есенина с Мариенгофом и т. п., но рассказывала о поэтах того времени всегда в ироническом тоне. Политические взгляды, господствовавшие в нашем доме, отстраняли меня от советской литературы. Конечно, все мы читали тогда «Школу» Гайдара, «Республику Шкид» Кассиля и еще несколько общеизвестных и популярных книг. Но, в общем, я не знала советской литературы. И мой выход на поприще критики современной литературы был обусловлен и трагическим, и легкомысленным совпадением ряда случайностей.
Совсем другое увлечение ознаменовало для нас последнюю предвоенную зиму. Это, кажется, я узнала случайно, что в Третьяковской галерее есть платные искусствоведческие кружки. Рубль с человека и не менее шести человек в группе, занятия раз в неделю. Я загорелась заманчивой идеей и уговорила нашу компанию плюс еще кого-то из класса записаться в такой кружок. Ах, какое это было для меня счастье! Каждую неделю в пять часов я стремительно пересекаю Арбат, бегу по Денежному переулку, из Глазовского появляется Лиля, Алеша уже заранее вышел из своего дома, на Кропоткинской стоит Дима, а там всей гурьбой вниз к Москворецкому мосту, через пустынную Болотную площадь и прямо в Лаврушинский. Открытие нового взгляда на знакомые картины объединилось для меня с путешествием в галерею — любимые переулки, строгая Кропоткинская, вид с моста на Кремль — все вместе входило в ощущение эстетического праздника.
Нам очень повезло с руководительницей кружка. Она научила меня не только наслаждаться картинами, но понимать, что они есть результат мысли, усилий и умения художника. Мне стыдно, что я не помню ни фамилии, ни имени руководительницы. Да и длилась эта искусствоведческая эпопея недолго. В течение, кажется, пяти или шести занятий наша руководительница стремительно провела нас по всем векам русской живописи — от икон до Врубеля. И тут же вслед за коротким общим обзором нам было дано задание: выбрать себе по вкусу картину и дать ее анализ в письменной форме. Почти шесть десятилетий прошло с тех пор, а я помню наш тогдашний выбор: «Иван Грозный убивает своего сына» — Алеша, «Иван-царевич на сером волке» — Дима, «Мостик через пруд» (кажется так?) Левитана — Лиля, «Девочка с персиками» Серова — я. А написать мне пришлось оба последних сочинения. Лиля, только приступив к работе, тут же опустила руки. Старательная отличница в классе, она оказалась лишенной свободного воображения. Мальчики больше напирали на драматизм выбранных сюжетов. Я же упивалась описанием «колорита» и «фактуры», щедро используя только что подхваченные на занятиях новые для меня термины. И мое вдохновение нашло отклик: оба моих сочинения были отмечены как лучшие. И тут наша группа распалась. Лиля страдала от уязвленного самолюбия после поражения. Диме надоели эти занятия, и он просто не вышел из своего Еропкинского переулка перед очередным занятием. Алеша, как всегда, молчал, но послушно выходил мне навстречу. Я дважды заплатила за непришедших рубли, чтобы продлить существование кружка. Но где мне было взять эти рубли? И мое счастье кончилось. Регулярно ходить в Третьяковку теперь мы стали с Андреем Турковым, но вкусов своего скрытного брата я так тогда и не узнала.