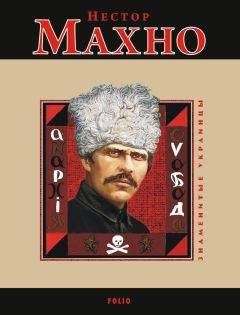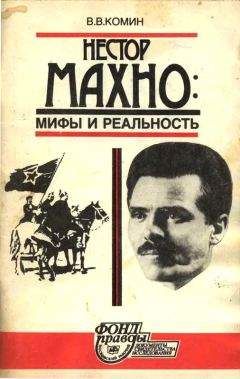Василий Голованов - Нестор Махно
12 июля махновцы ворвались в городок Зеньков: первым делом убито 27 коммунистов, затем разграблены и разбиты продовольственные склады с запасами муки, соли, круп, сахара. В августе Миргород – то же самое, расстрелы и грабеж, вернее даже не грабеж, а какое-то бессмысленное уничтожение всего накопленного большевистской властью. Но не могло в голодном 1920 году такое глумление над хлебом насущным пройти за просто так, должно было аукнуться! Разрушая, махновщина несла в себе зерно саморазрушения. В этом смысле она была обречена. Если бы махновцам позволили строить свои «вольные советы», они, можно не сомневаться, вошли бы в историю совсем другим образом, с другим выражением лица – например, как странная революционная секта трудолюбивых восточноукраинских крестьян. Но этого не случилось. Вся энергия махновщины пережглась в ненависти…
Самый большой позор Махно 1920 года – «успеновская авантюра» – случился в августе, когда уже наступление белых стало угрожать территории махновского района. Тогда штаб Повстанческой решил не ограничиваться декларациями о своей революционности, а заслать в тыл врангелевцам рейдовую группу в 800 человек. Группа собралась в тылу красной 13-й армии возле все той же Успеновки, где махновцы повстречались с посланцами «Набата», но тут выяснилось, что в селе находится красноармейская часть и полевые кассы с крупными суммами денег. Поход в тыл Врангеля был отменен, махновцы налетели на Успеновку и, прихватив красноармейское жалованье, стали отходить, отстреливаясь из пулеметов. Ускользающие денежки придали задору красноармейцам, которые, крупными силами бросившись махновцам наперерез, истребили значительную часть отряда и чуть не захватили в плен самого Махно.
Анархисты из Реввоенсовета и секции пропаганды были возмущены батькиной авантюрой. Вновь, как и в девятнадцатом году, между идейным центром махновской армии и ее штабом стал назревать конфликт. Но если в 1919 году Волин не осмеливался, да и не желал, видимо, делать поползновения к замене Махно другим командиром, то возглавлявший Реввоенсовет в 1920-м Арон Барон такую попытку предпринял.
В самом конце августа в бою возле Изюма Махно был ранен в ногу, у него была раздроблена лодыжка. Несколько дней отряд вез раненого батьку на тачанке, пока, наконец, махновцы не вошли в Старобельск, где 3 сентября местный хирург прооперировал Махно и Василия Куриленко, тоже раненного в ногу. Врач сказал, что опасности для жизни раны не представляют, но болеть командиры будут долго и, по-видимому, не скоро сядут в седло (12, 167).
Арон Барон решил использовать этот шанс и потребовал от штаба повстанцев, чтобы боевые операции армии впредь согласовывались с председателем Реввоенсовета и другими представителями «Набата». У махновских командиров это вызвало шок: они всегда воспринимали набатовцев как своего рода прилепок к армии, делателей листовок и газет – но чтобы эти люди решали боевые вопросы?! Были недовольны и рядовые махновцы, которые тоже не слишком серьезно относились к «идейным» городским анархистам и, доверяя только своим «батькам», конечно, не потерпели бы, чтобы ими командовал совершенно им чуждый человек, какими бы революционными заслугами он ни обладал.[18]
Почувствовав неудачу своей антимахновской эскапады, Барон вынужден был заявить о своем уходе с поста председателя Реввоенсовета армии и уехать в Харьков, бросив знаменитую фразу:
– Лучше сидеть в советской тюрьме, чем прозябать в этой пресловутой анархистской обстановке… (75, 99).
В Харькове в начале сентября как раз проходила конференция «Набата», и Барон подоспел как раз к сроку, чтобы наговорить о Махно множество неприятных вещей и склонить своих товарищей к принятию весьма горькой резолюции: «Конференция считает нужным подчеркнуть, что крестьянские восстания последнего времени не революция, а бунт, и никаких изменений в общественных формах они не несут…» (40, 210).
«Набат» отрекся от Махно: «Два года борьбы против разных властей под руководством анархиста Махно выработали внутри (повстанческой армии. – В. Г.) некое ядро, которое усвоило лозунги безвластия и вольного советского строя. Это ядро составляет тип промежуточный между обычным бунтарем, инстинктивным искателем справедливости, и сознательным революционером-профессионалом. Работая в согласии с анархистскими организациями, это ядро могло бы стать одним из активных отрядов пропаганды анархистских идей. Этому мешает, однако, то обстоятельство, что стоящий во главе махновщины „батько“ Махно, обладающий многими ценными для революционера качествами, принадлежит, к сожалению, к тому типу людей, которые свои личные капризы не всегда могут подчинить интересам дела…» (40, 211).
Черт возьми, а прав оказался Ленин, прозывавший анархистов «пустомелями»!
Крестьян же, которые поставляли рекрутов в махновскую армию, анархистские резолюции нимало не трогали: они воевали за хлеб и за землю и в 1920 году еще не проиграли этой войны. Махно – не вопреки, а благодаря своей жестокости – оказался неплохим охранителем. Есть две впечатляющие цифры. Если в среднем по Украине процент изъятия хлеба у крестьян составлял около одной трети задания, то в «махновской» Александровской губернии он был ничтожно мал – всего 3,1 %. Практически здесь продразверстка была парализована, изъять не удалось ничего. Да и некому было особенно изымать: в той же Александровской губернии к ноябрю 1920 года удалось организовать всего 54 комитета незаможных селян, тогда как в Киевской их было 1274. Махно все еще оставался хозяином в своем районе…
Махновцы простояли в Старобельске по своим меркам очень долго, почти месяц, никого не беспокоя: им нужен был отдых, нужно было подлечить батьку. В Старобельске-то и сыскался фотограф, который запечатлел махновский штаб, раненого Махно в госпитале, раненых Махно и Куриленко в компании друзей, с сестрой милосердия на первом плане…
Опять была осень, облетающая листва. Время тянулось, нужно было что-то решать. Поляки были отброшены назад, в Польшу. Красные перебрасывали все силы на Южный фронт. В сентябре врангелевцы занимали уже Синельниково, Александровск, Гуляй-Поле…
Махно был неглуп и, конечно, сознавал, что Барон во многом прав и, сколько ни жги, ни режь, – крестьянской проблемы так не решить. Он чувствовал, что решение ее возможно лишь на политическом уровне. В этом смысле то, что «Набат» отвернулся от него, конечно, травмировало Махно. «Своего» проводника в высших сферах политики у него не было. Махновщина была паровой машиной без привода: пар клокотал в ней, но не совершал никакой полезной работы. Нужно было найти способ эту клокочущую энергию как-то направить в механизм действующей политики.