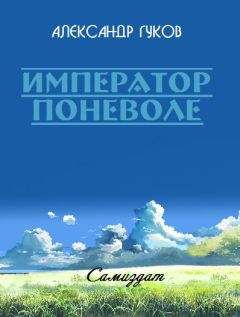Михаил Лобанов - Аксаков
Наконец кончились невзгоды и лишения десятилетней ссылки, наступила вожделенная свобода. Позади месячное плавание от Астрахани вверх по Волге, доставившее ему столько впечатлений, полугодовое пребывание в Нижнем Новгороде. И вот теперь с помощью своего незаменимого друга Щепкина Тарас Григорьевич знакомится с Москвой, с известными москвичами. «Радостнейший из радостных дней, — записал Шевченко в своем дневнике 22 марта 1858 года, — сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков». До этого они заочно уже были знакомы. За время пребывания Шевченко в Нижнем Новгороде его навестил Щепкин и передал ему от Сергея Тимофеевича дарственный экземпляр «Семейной хроники» с дружеской надписью автора. Шевченко ответил Аксакову восторженным письмом, благодаря за подарок, за «высокое, сердечное наслаждение», которое он получил от чтения полученной книги. В другой раз через В. И. Даля, проживавшего в Нижнем Новгороде, Аксаков послал Шевченко свою новую книгу «Детские годы Багрова-внука». Для Тараса Григорьевича Аксаков как выдающийся художник был авторитетным ценителем произведений искусства. Еще в Новопетровском укреплении Шевченко начал писать повесть на русском языке «Прогулка с удовольствием и не без морали», часть ее он решил из Нижнего Новгорода послать Аксакову, желая знать его мнение. И похвалы Сергея Тимофеевича, а затем откровенные его критические замечания на присланную вторую часть повести Шевченко принял с одинаковой благодарностью, видя в «искреннем, благородном» отзыве Аксакова самые доброжелательные побуждения.
И вот наконец произошла личная встреча Шевченко с Аксаковым, как уже говорилось, в Москве, 22 марта 1858 года. Это свидание длилось всего несколько минут. Сергей Тимофеевич был болен, доктор наказал никого к нему не пускать, но, узнав о присутствии в доме Щепкина и Шевченко (которые пришли поклониться семейству Аксаковых), Сергей Тимофеевич просил их к себе. «Видно, много пришлось пережить этому человеку», — с сочувствием думал Сергей Тимофеевич, утомленный волнением первого знакомства. Обычно угрюмый, нелюдимый, Шевченко теперь рядом с Аксаковым казался другим человеком: смотрел по-доброму, с доверием, улыбался, Щепкин слушал их разговор довольный: можно было догадаться, сколько взаимно доброго наговорил он им друг о друге. «Какая прекрасная, благородная старческая наружность! — говорил с восхищением об Аксакове Тарас Григорьевич, когда они возвращались домой к Щепкину. — Эти несколько минут навсегда останутся в кругу моих самых светлых воспоминаний».
Через день Шевченко вновь навестил Аксакова. На этот раз Сергей Тимофеевич чувствовал себя лучше, он сидел в кресле, по-домашнему одетый в подобие зипуна, придававшего его внешности почти хуторскую простоту в глазах гостя. Умудренный болезнью взгляд старика был проникающе кроток, и Шевченко, уставшему от многолетнего тяжкого груза ненависти ко всему, что сделало его жизнь несчастной, было покойно от этого взгляда, и самого его коснулась выстраданность примирительного состояния. Среди близких друзей Сергея Тимофеевича было немало украинцев: М. А. Максимович, О. М. Бодянский, П. А. Кулиш, М. С. Щепкин, не говоря уже о Гоголе. И вот теперь — Шевченко, вызвавший в памяти все слышанное о Малороссии, жившее в душе поэтическим образом. Влюбленный в Малороссию, в ее села, утопающие в садах, в проселочные дороги между хлебов, в красоты южных ночей, все равно каких — безлунных или же полнолунных, Иван Сергеевич столько живого поведал отцу об украинской природе и быте, что теперь в разговоре с гостем обаяние всего этого встало перед Сергеем Тимофеевичем, и он поддался ему почти с молодым увлечением. Шевченко, слушая, светлел лицом, как будто вдыхал доносившийся с далеких родных полей запах хлеба. Но вдруг, задумавшись, нахмурился, метнул крутым исподлобья взглядом и громко проговорил: «Дюже богата и добра украинская земля и дюже жалок на ней поруганный, бессловесный смерд! Кто подает голос за этого бедного, опаскуженного раба?!» Тарас Григорьевич сделал резкий жест правой рукой, как будто сорвал шапку с головы и бросил ее на пол (что он всегда делал в патетические минуты, в пылу разговора). Тут же Шевченко вспомнил Салтыкова, его «Губернские очерки», от которых он был в восторге, и воскликнул: «Как бы возрадовался Гоголь, увидя вокруг себя гениальных учеников своих!» Произнесенное имя Гоголя только добавило теплоты разговору.
Перед уходом гостя старик Аксаков пригласил его на лето к себе в деревню, в Абрамцево, на что Шевченко отвечал, что, кажется, не устоит против такого искушения.
На следующий день Шевченко заехал к Аксаковым проститься. Больной спал, и Тарас Григорьевич «не имел счастья облобызать его седую прекрасную голову». Домашние, как и сам Сергей Тимофеевич, за короткий срок уже успели полюбить гостя, и среди этих милых, неподдельно искренних людей Тарас Григорьевич чувствовал себя как дома. Надежда Сергеевна «угостила» его украинскими народными песнями, и что более всего тронуло поэта — это то, что в семействе Аксаковых непритворно любили Малороссию, а вместе с нею — и его поэзию. «В Москве, — записал Шевченко в своем дневнике, — более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии. Особенно в семействе С. Т. Аксакова».
***Вплоть до последних лет в Сергее Тимофеевиче, больном, не выходящем из дому, не угасал живой интерес к людям, ко всему новому, значительному, что происходило в литературной жизни. Некоторые к нему шли, может быть, и с себялюбивой мыслью, но уходили с невольно испытываемым чувством душевного очищения, и это оставалось в людях помимо и глубже всех слов, на всю жизнь.
Глава XIV
«ПРЕКРАСНАЯ, ПОЛНАЯ ЖИЗНЬ»
Какова жизнь, таков и венец ее. Что греха таить, пришлись ему по сердцу слова, сказанные о нем как о писателе одним критиком: «Только прекрасная, полная жизнь могла увенчаться такою силою и чистотою внутреннего зрения». Он почти слепец, и все же чистым внутренним оком смотрит на мир, на людей. Да и неоткуда, кажется, взяться душевной замутненности. Он не знал искривляющей внутреннее зрение ненависти, той ненависти, которой иные только и живут, вскармливают ее в себе как любимое дитя, лелеют и разжигают, даже не думая о том, что это дитя способно пожирать не только других, но и своего кормильца. Сколько он знал и знает людей, обуянных идейной ненавистью, презирающих все в жизни и саму ее за то, что она не укладывается в их теорию, не подчиняется их самоуверенной мысли. Судьба хранила его и от славолюбия, которое так же, как и властолюбие, извращает, отупляет человека. Никогда не был он томим ни тщеславием, ни завистью, попросту был семьянином и только, пожалуй, случайно, как он считал, стал писателем, «беспристрастным передавателем изустных преданий», по его словам. Мог бы и не быть им, и оттого не изменилась бы его жизнь, не потеряла бы своего смысла. Хотя и не дано ему было бы тогда знать ту радость самоотдачи, которую он испытал, слагая свою лебединую песнь. Кажется, не старости ли низвести в его душу покой и тишину, но нет, видно, не ему такая доля, ничто — ни болезни, ни годы не могли умиротворить его душу.