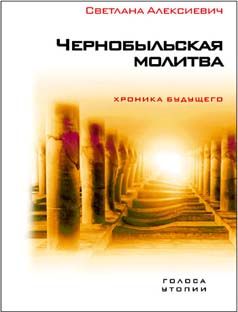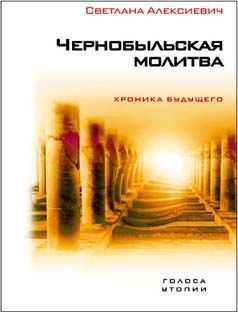Алла Демидова - Заполняя паузу
Вспомните: раньше, когда сцена была закрыта занавесом, жизнь закулисная, актерская манила, казалась тайной. Постепенно это стало разбалтываться, всякими интервью – в частности. Публика стала считать: там все то же самое, что и у нее. Никаких секретов. Совершенно забывают, что сама эта профессия – уже тайна.
Если проследить по истории, пик театра всегда совпадает с пиком общества. Общества как коллектива, товарищества, соборности. Но постепенно мы стали «индивидуализироваться». Сейчас этот процесс, по сути, завершился. От коллективного мышления, бараньего, стадного, человек отходит. И потому театр как выразитель коллективного мышления человека перестает интересовать. Ему нужен другой театр, который давно уже должен был у нас родиться, – театр духа, театр монодрамы, проникающий в тайники души. И, кстати, к этому был вполне готов наш русский театр. Но режиссура 60-х годов не упускала своих достижений, не хотела отойти от принципов коллективного, массового театра, массовых зрелищ, политических идей.
Всем надоела формула, что театр живет циклами – это известно уже как трафарет, но тем не менее это так. Как человек: рождение, пик зрелости, умирание. И если театр – живой организм, а не мертвый со своими закостеневшими традициями, он тоже проходит эти циклы. Другое дело, что театр – это еще и птица Феникс, которая умирает и возрождается.
Например, «Таганка».
Середина 60-х годов: игра формы, фронтальные мизансцены, необычные световые решения, отсутствие привычной драматургии, публицистика, эпатаж привычного, кинематографический монтаж сцен и т. д. – то, что коротко называлось «Таганкой», и люди на это шли.
В конце 60-х – начале 70-х, когда общество стало заниматься самоанализом, на первый план вышло слово. То, о чем люди читали в самиздате, о чем говорили друг другу на кухнях, на «Таганке» звучало вслух со сцены. Ничего особенно нового в этом не было, но слово, произнесенное со сцены, становится общественным явлением. И поэтому «Таганка» как бы приняла эстафету «Нового мира» времен Твардовского, стала общественной трибуной.
Но когда эти слова уже были сказаны, когда они стали третьей и четвертой волной, когда в Москве говорили «ГУМ, ЦУМ и Театр на Таганке» (то есть «достопримечательности для приезжих»), вот тогда, вспомнив слова Гамлета, надо было повернуть «глаза зрачками в душу». Но «Таганка» шла по своей прежней накатанной колее.
Тогда уже возник невидимый снаружи, внутренний конфликт с Любимовым, когда он жаловался на нас, на актеров…
Внутри уже ощущалось приближение болезни, у которой еще нет диагноза. И разразилась катастрофа. Смерть Высоцкого как бы прорвала эту тайную болезнь, конфликт увиделся воочию. После этого – запреты «Бориса Годунова», «Высоцкого», эмиграция Любимова. И пошли все наши беды.
Приход Анатолия Эфроса – трагическая его ошибка, за которую он расплатился жизнью.
Далее – период смутного времени, приход Губенко.
Возвращение Любимова. Естественная радость и надежда, что он принесет нам то, что он за пять лет взял у Запада, – сценическую западную культуру, западные реакции.
Любимов возобновил (точнее, прошелся рукой мастера) «Бориса Годунова», «Высоцкого», «Живаго» и поставил два новых спектакля – «Пир во время чумы» Пушкина и «Самоубийцу» Эрдмана.
И началась другая история «Таганки», которую я уже мало знаю.
Из письма к N
…С Любимовым мы встречаемся на гастролях. Возим в основном «Бориса Годунова». Идет этот спектакль хорошо – это неожиданно для западного театра, и, кроме того, люди хотят посмотреть, как играет министр культуры.
Сейчас Любимову предложили интересную работу с нашим театром – в 1992 году на фестивале в Греции поставить «Электру». Юрий Петрович поручил мне выбрать, какую именно «Электру» нам готовить. Я советовалась со специалистами, с Аверинцевым и другими, решили избрать «Электру» Софокла, а перевод – Зелинского. Но ведь Юрий Петрович далеко, его нет в Москве, а кто-то должен «разминать» спектакль, как это было, скажем, с «Борисом Годуновым», который почти до конца готовил перед приездом Любимова Анатолий Васильев.
Но человек все равно живет надеждой, даже при смертельной болезни. И у меня есть надежда на возрождение «Таганки». Слишком много вложено в нее энергии, талантов, человеческих судеб и поисков, разочарований, драм, трагедий, чтобы это просто ушло в песок.
Я смотрю на нашу труппу. Актеры живые, они не удовлетворены, а рядом с неудовлетворенностью собой всегда есть нечто, похожее на идеал, – то, к чему стремишься. А это уже надежда. Ну хотя бы один пример: гоголевский «Ревизор» с Петренко – Городничим и Золотухиным – Хлестаковым – вот уже была бы «Таганка», таганская школа игры на оголенном нерве. И даже неважно, какой именно режиссер поставил бы этот спектакль.
Сейчас сама атмосфера требует прихода новых режиссерских сил. Но, увы! Любимов не очень склонен к этому. Вот пример, на нынешний театральный фестиваль «Битеф» в Югославии были приглашены от Советского Союза два спектакля: «Борис Годунов» и «Федра», которую поставил на «Таганке» Роман Виктюк. Любимов запретил, поедет один «Годунов».
Помню, в 1975 году на тот же «Битеф» были приглашены тоже два спектакля – «Гамлет» Любимова и «Вишневый сад» Эфроса. Любимов не согласился. Правда, потом «Вишневый сад» все-таки был показан и получил Гран-при. Так что справедливость в итоге торжествует, но хотелось бы, чтобы она побеждала как-то легче и быстрее.
Мы сейчас переживаем оздоровление, мы «вправляемся». У нас начинают открываться глаза. Обратившись к собственной душе, человек понял, что он всего лишь песчинка в огромном космосе. Но у каждого человека есть своя ниша, найти собственную нишу в огромном мироздании – вот цель.
Но при этом в вопросах судьбы я – фаталист. Я считаю, что каждому предопределена своя программа, и ее нельзя ломать, это чревато трагедией. Быть верным собственной судьбе, найти свою нишу в мире…
Декабрь 1991 годаВид из окна Анатолия Слепышева
Анатолия Слепышева Новое в искусстве всегда воспринимается с трудом и не сразу. Все непривычное вызывает непонимание, а непонимание – раздражение. Не принимают иногда с одинаковой силой и невежды, и профессионалы. Общеизвестно, как Хрущев кричал на художников в Манеже 1 декабря 1962 года: «Осел хвостом может лучше…»
А еще раньше один прекрасный профессионал не понял и не принял другого – Вебер о 7-й симфонии Бетховена говорил: «Экстравагантность этого гения дошла теперь до крайности; Бетховен теперь совершенно созрел для сумасшедшего дома». Но, видимо, так было и будет во все времена: Лев Толстой считал Шекспира плохим драматургом, а самого Толстого не любил Тургенев.