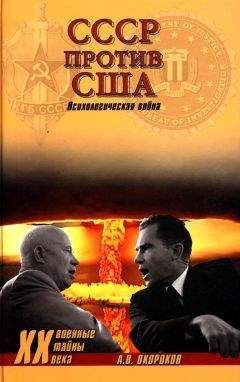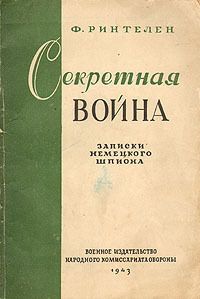Герхард Кегель - В бурях нашего века. Записки разведчика-антифашиста
И этот расположивший меня к себе человек повел меня в канцелярию подразделения связи пехотного полка, находившегося на формировании в казармах Гинденбурга во Франкфурте-на-Одере. Унтер-офицер в канцелярии, к которому мы обратились по моему делу, с интересом выслушал моего новоявленного опекуна. Оглядевшись в канцелярии, я заметил скрипичный футляр, лежавший на одном из шкафов.
– Вот тебе и раз! – воскликнул я с удивлением. – Никак не ожидал увидеть скрипку на шкафу у «пруссаков». Неужели и вправду в футляре находится скрипка?
– Конечно, – ответил начальник канцелярии. – Ведь по своей гражданской профессии я музыкант. А вы тоже играете на скрипке?
– Я всего лишь любитель, – ответил я. – И мне никогда не пришло бы в голову взять с собой скрипку на военную службу. Она вряд ли понадобилась бы мне в маршевом батальоне.
– Подожди-ка, это дело мы сейчас уладим, – ответил музыкант. Он позвонил своему коллеге в канцелярии маршевого батальона, изложил суть дела и сказал, что во избежание обременительной переписки меня можно было бы сразу оставить в подразделении связистов, а не направлять в маршевый батальон, а потом оформлять перевод оттуда.
Начальнику штабной канцелярии в маршевом батальоне все это было совершенно безразлично. Он ответил, что ему лишь требуется мое предписание да взглянуть на меня самого. Он зарегистрирует меня в книге личного состава, а затем отметит как выбывшего по требованию подразделения связи.
Так вместо маршевого батальона я оказался в подразделении связи. Разница между обоими вариантами показалась мне такой же, как разница между верным шансом на братскую могилу и возможностью выжить.
Через несколько дней я получил первое увольнение. Мы втроем устроились за столиком в маленьком винном погребке во Франкфурте-на-Одере. Я рассказал о Варшаве, Москве, о своей прошлой работе. Оба моих случайных попутчика рассказали о себе и прежде всего о Сталинграде. Оба они были тяжело ранены в начале битвы под Сталинградом. Их вывезли на родину и после лечения в госпитале зачислили в качестве инструкторов в подразделение связи во Франкфурте-на-Одере, в постоянный состав служащих казарм. Оба они были сыты войной по горло и убеждены, что Гитлер не сможет победить в ней.
Вскоре они поняли, что я разделяю их мнение и не имею никакого желания расстаться с жизнью «как герой». Таким образом, у нас возникла общая основа для бесед во время наших ставших регулярными встреч в маленьком винном погребке.
Конечно, у меня были все основания для проявления величайшей осторожности – поначалу мне казалось, что эта новая дружба завязывается уж слишком быстро. Но через несколько месяцев у меня появилась уверенность, что Хильдебрандт – так звали штабного ефрейтора – и Шойх – это была фамилия унтер-офицера со скрипкой – являлись убежденными противниками гитлеровского режима. И в конце концов у меня сложилось убеждение, что они отвергали гитлеровский режим не только в результате участившихся после Сталинграда поражений нацистского вермахта и его «планомерного отхода» на Восточном фронте. Но последнего барьера осторожности ни они, ни я так и не преодолели.
Через несколько лет после войны меня посетил бывший штабной ефрейтор Хильдебрандт. Он передал мне несколько фотографий, снятых во Франкфурте-на-Одере унтер-офицером Шойхом, человеком со скрипкой, которому удалось сохранить их, несмотря на тюремное заключение и войну. Насколько помню, Шойх работал в те послевоенные годы концертмейстером оркестра театра «Фридрихсштадтпаласт». Оба они разыскали меня по статьям, которые я публиковал тогда в газете «Берлинер цайтунг». Чтобы окончательно убедиться, что я тот самый Герхард Кегель, который когда-то служил вместе с ними во Франкфурте-на-Одере, Хильдебрандт принес мне эти фотографии. Он также вручил мне рукопись своего романа, опубликовать который в «Берлинер цайтунг» мне, однако, так и не удалось ввиду чрезвычайной взыскательности в литературных делах Пауля Рилла.
В то время я был по горло занят делами, и все же постоянно упрекаю себя за то, что не сохранил связи с друзьями из бывших казарм Гинденбурга во Франкфурте-на-Одере. Хотя с товарищем Шойхом, который стал затем членом СЕПГ, я несколькими годами позднее вел переписку.
Когда я уже приступил к работе над своими мемуарами, я с болью узнал о его внезапной кончине.
И тем, что сегодня я вспоминаю о своей военной службе во Франкфурте-на-Одере без чувства особой горечи, я обязан прежде всего человеку со скрипкой, который, как только мог, стремился облегчить мне жизнь в нацистских казармах. Этому, несомненно, содействовало и то, что он и Хильдебрандт имели доступ к чувствительным радиоприемникам, и они обогащали наши беседы во время регулярных встреч в винном погребке самыми последними сообщениями с военных фронтов. А моей сильной стороной являлся анализ этих сообщений. И мы, таким образом, могли почти всегда довольно реалистически оценивать обстановку. Нам хотелось составить себе представление о том, как долго продлится еще эта ужасная война. Мы внимательно следили за продвижением Красной Армии на запад, за великой битвой на Курской дуге и развернувшимся после нее общим наступлением Красной Армии.
Как-то раз я рассказал своим друзьям в казармах Гинденбурга о моем ордене «За военные заслуги» II класса – я никогда не носил его. Оба они сочли, что с моей стороны было глупо не использовать преимущества, которые могла бы дать мне орденская ленточка в петлице моего затасканного военного френча. Ведь ко мне, ефрейтору с такой орденской ленточкой, должны были с уважением, как к заслуженному фронтовику, относиться даже живодеры-начальники. Орденская колодка могла бы предохранить меня от излишних мытарств и несколько облегчить жизнь. Оба они всегда носили свои награды, полученные после ранений в сталинградских боях, и это приносило им пользу. Молодые нацистские офицеры вели себя по отношению к ним более осторожно и вежливо, чем по отношению к тем, кто не имел наград.
Доводы друзей убедили меня. И действительно, эта орденская ленточка хорошо служила мне до 1945 года, ограждая от неприятностей и, пожалуй, даже от опасности.
Чтобы хоть на время как-то разнообразить монотонную казарменную жизнь и избежать повседневной муштры, я добровольно изъявил готовность к выполнению различных работ, например, сажал картошку или таскал грузы на товарной станции, когда срочно требовалось «еще позавчера» погрузить в вагоны важные вещи или без задержки высвободить для срочных военных перевозок железнодорожный состав.
Поскольку все эти наряды проходили через моего друга Шойха – в его обязанности входил окончательный подбор солдат для выполнения подобных работ, – мне удавалось избегать таким образом некоторых совсем неприятных занятий. Смысл жестокого обращения с людьми в нацистском вермахте состоял тогда прежде всего в том, что солдат должен был бояться своего начальника больше, так сказать, чем «смерти героем». В казармах Гинденбурга во Франкфурте-на-Одере, где мне все же не удалось полностью избежать подобной дрессировки, в спальнях довольно часто можно было услышать о том, что особенно бесчеловечные живодеры уже в первых серьезных боях гибли «за фюрера и рейх» в результате странных выстрелов в спину. Кто стрелял, это чаще всего оставалось неизвестным. Следствием таких явлений было то, что самое позднее за несколько дней до отправки нового маршевого батальона или другой воинской части на фронт придирки со стороны офицеров вдруг прекращались. Во время солдатских встреч за кружкой пива даже самые жестокие живодеры, особенно те из них, кто не относился к постоянному составу служащих казарм, а должны были отправляться на фронт с очередным маршевым батальоном, стремились как-то приглушить у подчиненных взрывы накипевшего гнева.