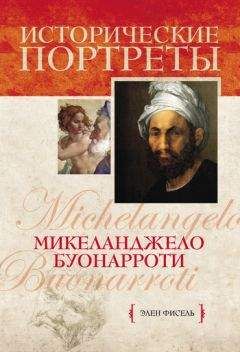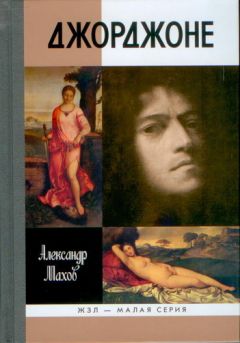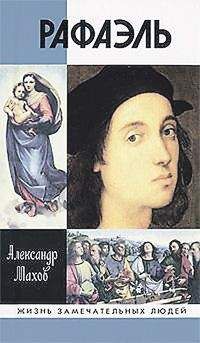А. Махов - Микеланджело
С самого начала его оглушила разноголосица шумной компании прибывших художников, каждый из которых был наделён своим характером и темпераментом. Он привык работать в одиночку и не выносил присутствия посторонних лиц, а особенно отвлекающих от дела разговоров. Так было при работе над «Пьета», «Давидом» и картоном «Битвы при Кашине», когда ему приходилось прибегать только к сугубо технической помощи нанятых подсобных рабочих.
Он затосковал, не зная, как поступить. Присутствие в капелле посторонних стало его тяготить и раздражать — уж таков был его неуживчивый характер. Он сознавал, что поступает неучтиво с товарищами, особенно с Граначчи, который прибыл вместе с женой, желая закрепиться в Риме с его помощью. Но ничего не мог с собой поделать — смалодушничал, запер капеллу и отказался встречаться с нежеланными помощниками. Ему не хватило смелости честно и открыто сказать друзьям, что ошибся и в их помощи больше не нуждается. Зная его вздорный нрав, вспыльчивость и не поддающиеся объяснению странности, Граначчи взял на себя улаживание создавшегося двусмысленного положения, когда прибывшие в Рим художники оказались не у дел, а пригласивший их друг прятался от них. Как пишет Вазари, «художники нашли, что шутка чересчур затянулась, и глубоко обиженные вернулись во Флоренцию». Микеланджело не увидел в приехавших в Рим ему на подмогу того душевного порыва, который не покидал его, и впал в уныние, в чём сам признаётся:
Кто горе мыкать уж не в силах боле,
Пусть ринется за мной в огонь хоть раз! (56)
Как ни неприятен сам этот факт, он говорит об особом трепетном отношении Микеланджело к творческому процессу, который, по его мнению, не зависит от технических средств. При всей их важности не они являются определяющими для достижения поставленной цели. Он был уверен, что через пару недель вспомнит навыки, обретённые в мастерской Гирландайо, освоит технику фресковой живописи и начнёт самостоятельно разбираться во всех её тонкостях.
Одержимость технической стороной творческого процесса скорее была свойственна Леонардо да Винчи, который рассматривал искусство и науку как равнодействующие орудия познания жизни, причём во главу угла им ставилась наука, которая однажды сыграла с ним злую шутку, а обессмертила его искусство именно живопись, лишённая наукообразных рассуждений. В отличие от Леонардо, который призывал «учиться, дабы подражать», для Микеланджело, как ранее для Джотто и Мазаччо, период ученичества был скоротечен или почти не существовал, и он интуитивно знал, что и как надобно изображать, проявляя удивительное чутьё и глубокие познания в любом деле, за которое брался.
* * *
Он остался один в пустой капелле с парой подмастерьев, в обязанность которых входило подносить раствор и растирать краски. Чем больше множились трудности, тем дерзновеннее становились задачи, которые он ставил перед собой. После отъезда обиженных флорентийских друзей он уже осенью приступил непосредственно к фресковой росписи один на один с гигантским потолком. Начался поистине трагический период в жизни Микеланджело, не покидавшего мрачную капеллу и полностью отстранившегося от мира. Во Флоренции распространился даже слух о его смерти, и ему пришлось письменно заверить отца, что он пока жив, хотя, как говорилось в письме, «живу я здесь недовольный собой, не совсем здоровый, переношу большие лишения, без присмотра и без денег, но всё же надеюсь, что Бог мне поможет».
А недавно из письма Буонаррото он узнал, что Джовансимоне, получив отказ выдать ему деньги, ударил отца. Такого он стерпеть не смог и тут же направил брату грозное письмо:
«Джовансимоне, обычно говорят, что если делаешь добро доброму, то он становится ещё добрее, а если делаешь добро злому, он делается ещё злее. Я уже пробовал добрым словом и добрыми делами убедить тебя жить хорошо, в мире с нашим отцом и братьями. Но ты становишься всё сквернее и сквернее… Ты знаешь, что у тебя ничего нет за душой и всё, что ты имеешь, дано мной, так как я полагал, что ты мне брат, как и остальные братья. Но теперь я вижу, что ты негодяй и больше мне не брат…» Он настолько был взволнован полученным известием, что второпях не поставил дату, но, вероятно, письмо было написано в самом начале работ в Сикстине в 1508 году.
Это было время, когда наряду с неожиданными творческими откровениями, приводившими к блистательным результатам, он познал моменты исступлённого неверия в собственные силы, от которого не спасали самые невероятные по смелости замыслы и уговоры папы Юлия, верившего в силу его гения. Согласно разработанному им самостоятельно плану росписей центральная часть плафона включала в себя девять крупных сцен, где чётные сцены по размеру превосходили нечётные. Происхождение мира и сотворение человека — это была главная тема фресковой росписи, а после Грехопадения начинались не только история царящего на земле зла, страдания и смерти, о чём мучительно думали первые пророки, но и обещанное Спасение, являющееся высшим смыслом всей библейской истории.
Отказавшись от услуг августинского монаха, Микеланджело привнёс в библейские мотивы собственные впечатления от прочтения и глубокого переосмысления «Божественной комедии», а также от страстных проповедей Савонаролы, память о которых была в нём жива. С чего начать, чтобы придать нужное звучание всему циклу? Камертоном, как всегда, служил Данте. Но в отличие от великого поэта, начавшего свой путь с сошествия во Ад и хождения по кругам преисподней в сопровождении верного поводыря Вергилия, Микеланджело смело устремился в одиночестве к мистическому божественному свету в страстном желании сотворить свой собственный мир и населить его ветхозаветными пророками, сивиллами и простыми людьми.
В своём порыве он исходил из того же Данте и его склонности к символизму, что подтверждается призывом поэта к читателю научиться «видеть между строк»:
О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймёт,
Сокрытое под странными стихами.
Он по нескольку раз перечитывал «странные» терцины «Ада», «Чистилища» и «Рая», выискивая в них наставления и советы по созданию сложного по конфигурации собственного живописного мира, населённого множеством персонажей, движущихся или застывших во власти дум о судьбах человечества, исходя при этом из архитектоники поэтического шедевра Данте. Именно Данте был его путеводителем при написании библейских сюжетов, что придало им гражданскую направленность, в то время как апокалиптические пророчества Савонаролы зазвучали в унисон с драматизмом изображённых им пластических образов.