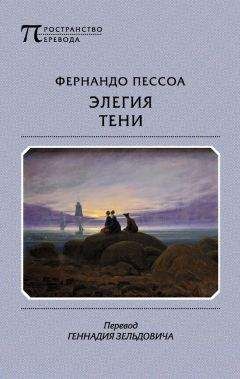Фернандо Пессоа - Книга непокоя
На водяных часах нашего несовершенства упорядоченные капли мечты отмечали нереальные часы… Ничто не стоит внимания, о моя далекая любовь, кроме знания о том, как это нежно – знать, что ничто не стоит внимания…
Остановившееся движение деревьев; тихий покой источников; неопределимое дуновение интимного ритма жизненных сил; медленное наступление вечера всех этих вещей, что, казалось, пришло к ним изнутри – подать руку в знак духовного согласия, печалясь, вдали и рядом с душою, высоким молчанием небес; падение листьев, плавное и ненужное, капли отчуждения, с которыми пейзаж обращает нас полностью в слух и печалится внутри нас, будто воспоминание о родине – все это, словно пояс, что развязывается, неопределенно окружает нас.
Там мы жили в каком-то времени, которое не умело протекать, в некоем пространстве, о котором нечего было и думать, чтобы его измерить. Течение времени вне Времени, некая протяженность, не знающая привычек реального пространства… Какие часы, о напрасная подруга моей скуки, какие часы счастливого непокоя притворялись нашими там!.. Часы пепла нашего духа, дни ностальгии о пространстве, внутренние века вечного пейзажа… И мы не спрашивали себя, зачем это было, потому что наслаждались уверенностью в том, что это не было бесполезно.
Там мы знали, интуитивно, хотя определенно не имели интуиции, что этот скорбный мир, где мы были вдвоем, если существовал, то был за крайней чертой, где горы – только дыхание форм, и за этой линией не было ничего. И лишь по причине противоречия в знании об этом наш час там был темным, точно пещера в земле суеверных людей, а наше ощущение от него было так странно, как очертания мавританского города на фоне небес в осенних сумерках…
Берега неизвестных морей достигали на горизонте, где мы их слышали, пляжей, каких мы никогда не смогли бы увидеть, и это было счастьем для нас – слышать, даже видеть его в нас, это море, где, без сомнения, шли под парусами каравеллы, пересекая его с другими намерениями, что не были утилитарными и захватническими, как на Земле.
Мы вдруг замечали, как замечающий, что он живет, что воздух полон песнями птицы и что, как старинные ароматы в атласе, шум трения листьев проникал в нас более, чем сознание, что мы его слышим.
И так щебет птиц, шелест рощ и глубина, монотонная и забытая, вечного моря создавали вокруг нашей покинутой жизни ореол неизвестности. Мы спали там в свои пробужденные дни, довольные тем, что мы – ничто, что у нас нет ни желаний, ни надежды, что мы забыли цвет любви и вкус ненависти, мы считали себя бессмертными…
Там мы проживали часы, полные другого ощущения от них, часы некоего пустого несовершенства, и такие совершенные поэтому, такие диагональные – для прямоугольной правильности жизни… Часы низложенных императоров, часы, одетые в изношенный пурпур, печальные часы в этом мире из некоего другого мира, более полного гордости от обрушенной тоски…
И нам было больно наслаждаться этим, было больно… Потому что, хотя он был местом тихого изгнания, весь этот пейзаж был нам знаком, и мы были из этого мира, весь пейзаж был влажен от торжественности какой-то смутной скуки, печальной и огромной и извращенной, как упадок некой неведомой империи…
На гардинах нашего алькова утро – это лишь тень света. Мои губы, которые, я знал, всегда были бледными, ощущают одинаковый мертвенный вкус и не хотят жизни.
Воздух в нашей сумрачной комнате тяжелый, точно портьера. Наше сонное внимание к тайне всего этого – вялое, точно шлейф платья, волочащийся за ним во время некой церемонии в сумерках.
Ни одна наша тоска не имеет под собою оснований. Наше внимание – некий абсурд, допускаемый нашей крылатой инерцией.
Я не знаю, какие масла сумерек умащивают наше представление о собственном теле. Наша усталость – это тень некой усталости. Она приходит из очень далекой дали, как идея о жизни, которая у нас есть…
Ни один из нас не имеет имени или приемлемого существования. Если бы мы могли быть шумными, почти воображая себя смеющимися, смеялись бы, без сомнения, над тем, что считали себя живыми. Согревающая свежесть простыни ласкала нам (тебе, как и мне, наверное) обнаженные ступни, чувствовавшие ступни другого.
Давай выведем себя из заблуждения, моя любовь, в отношении жизни и ее манер. Давай с тобой избегать того, чтобы быть нами… Не будем снимать с пальца магическое кольцо, что вызывает, если его повернуть, волшебниц тишины, и эльфов тени, и гномов забвения…
И вот он, ведь мы мечтаем поговорить о нем, появляется перед нами снова, густой лес, но сейчас более взволнованный из-за нашего волнения и более печальный из-за нашей печали. Перед ним убегает, как облетающий туман, наше представление о реальном мире, и я снова обретаю себя в своей бродячей мечте, которую этот таинственный лес включает в себя…
Цветы, цветы, среди которых я жил когда-то! Цветы, которые наш взор переводил в согласии с их именами, зная их, и чей аромат душа извлекала не из них самих, но из мелодии их имен… Цветы, чьи имена были, повторенные последовательно, оркестрами гармоничных ароматов… Деревья, чье зеленое сладострастие налагало тень и свежесть на то, как их называли… Фрукты, чьи имена были выгравированы зубами в душе их мякоти… Тени, бывшие реликвиями счастливых в былые времена… Поляны, светлые поляны, бывшие улыбками, более искренними, сонного пейзажа вблизи… О, разноцветные часы!.. Мгновения-цветы, минуты-деревья, о, время, парализованное в пространстве, мертвое время пространства, покрытое цветами, и ароматом цветов, и ароматом имен цветов!..
Безумие мечты в этой чужой тишине!..
Наша жизнь была всей жизнью… Наша любовь была ароматом любви… Мы переживали невозможные часы, полные тем, что мы были нами… И это потому, что мы знали, всей плотью нашей плоти, что не были реальностью…
Мы были безличными, пустыми от нас самих, были чем-то другим… Мы были тем пейзажем, исчезающим в осознании себя самого… И так, как двоился этот пейзаж – от существовавшей реальности и от иллюзии, – так мы были смутно двумя, ни один из нас не знал твердо, не был ли другой им самим или какой-то неопределенный другой существовал…
Когда мы внезапно появлялись перед застывшим покоем озер, мы чувствовали желание зарыдать… Там, у того пейзажа были глаза, полные воды, глаза остановившиеся, наполненные огромной скукой от существования… Да, полные скукой от существования, от необходимости быть чем-то, реальностью или иллюзией, – и эта скука имела свою родину и свой голос в немоте и в изгнании озер… И мы, всегда путешествуя, кажется, еще не зная и не желая этого, задерживались у тех озер, – столько от нас, символического и углубленного, оставалось и жило с ними…