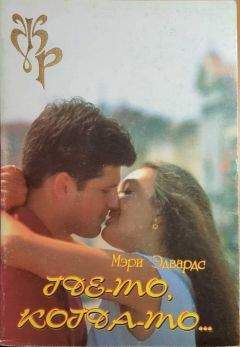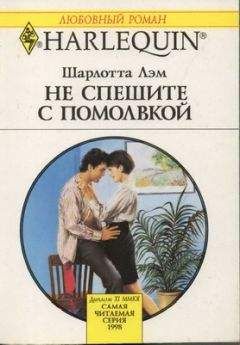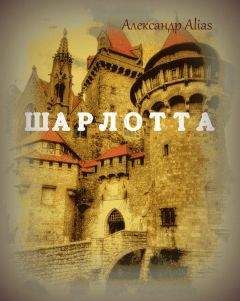Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал
Бывают события, глубинное значение которых выходит за пределы сиюминутной политической конъюнктуры и ближайших зримых последствий. В те три дня и три ночи после многих десятилетий Россия вновь обрела Христа, и Богородица осенила Своим Покровом многострадальный и безбожный народ, — это ощутили все защитники Белого дома, в том числе те, кто сейчас старается забыть об этом.
Решаюсь утверждать: не было в жизни моего отца (и в моей жизни) более страшной и более святой ночи, чем ночь с 20–го на 21 августа, когда Митя, сотрудник мэрии и руководства «Демократической России», с одним автоматом на пятнадцать человек оборонял здание Моссовета, окруженное бэтээрами, а Миша, безоружный, как все, стоял у стен Белого дома. Трагедии не произошло в том масштабе, в каком она могла бы произойти, но для трех матерей та ночь стала концом света. Для многих тысяч — могла стать. Великая ночь искупления и воскресения…
Письмо из августа 1991 ГодаГенка, милый, здравствуй!
Ты, наверное, знаешь у себя в Израиле о перевороте — об этом так много сообщали, но ни один репортаж не способен передать холодный ползучий ужас, сковавший нас на рассвете 19 августа, и пьянящее чувство победы, которое овладело всеми вечером 21–го, когда стало известно, что все сволочи уже арестованы и Горбачев летит в Москву.
Наверное, так начинается война. Митька, брат, позвонил в семь утра. Звонок прозвучал необыкновенно резко. Я выскочил в коридор — мама держала в руках трубку: «Все. Военный переворот. Горбачев снят». Я включил телевизор: гладкий диктор без всякого выражения читал текст; таких слов я давно не слышал. Митька сказал, что бежит в Моссовет, в мэрию, хотя ни у Ильи Заславского, ни у других «демроссов» телефоны не отвечают. Надо было что- то делать, что‑то решать. Ужас — гнусный, липкий. Ужас оттого, что мы ведь все где‑то в глубине души этого ждали, — и вот оно, любуйся.
По радио и телевидению крутили воззвания и постановления ГКЧП, по всем программам одно и то же: чрезвычайное положение, запрет митингов и демонстраций; потом закрытие всех газет кроме девяти самых гнусных и т. д. Самое ужасное — полное отсутствие информации. Митька позвонил из мэрии и сказал, что он там один и где находится российское правительство и что с ним, неизвестно.
Сидеть дома было невыносимо, я вышел на улицу и остолбенел: по Ленинскому проспекту сплошным потоком шли танки, пятнистые, с закрытыми люками и пушками, повернутыми на людей, стоящих на тротуарах. Я вернулся домой, поймал «Эхо Москвы». Эти замечательные ребята, сидящие на Никольской, в трехстах метрах от Кремля, вели себя просто геройски. В тот момент они передали самое главное для нас: Ельцин в Белом доме. Немного отлегло. Раз он на свободе, может быть, еще не все кончено.
Время тянулось невероятно медленно. Мы что‑то делали, что‑то говорили. Было похоже, что какая‑то липкая трясина затягивает нас и нет никакой возможности ей противиться. За окном что‑то хрюкнуло, и окна затряслись от раскатистого хриплого голоса: эти недоноски пригнали грузовик с мегафоном и стали транслировать обращения ГКЧП. А промежутки между словами заполнялись грохотом танков с Ленинского проспекта.
Я позвонил в мэрию и узнал, что Митька на Манежной ведет митинг, но площадь оцеплена бэтээрами. Я стал звонить в Белый дом. Отвечали, не спрашивая, кто звонит: у дома толпы людей, спешно строят баррикады, на некоторых танках появились трехцветные флажки…
День подошел к концу. В девять произошло невероятное: в чудовищно гнусной программе «Время», в которой рассказывалось, как народ с восторгом поддержал ГКЧП, неожиданно пошел репортаж Сергея Медведева с московских улиц. Он показал митинг на Манежной (был там и Митька), выступление Ельцина с танка у Белого дома и баррикады на улицах. Потом опять пошла какая‑то муть о необходимости борьбы с предпринимательством… Заснуть я в ту ночь не мог. Только после четырех отрубился под грохот танков: Язов начал менять войска, так как таманцы и кантемировцы стали слишком охотно поднимать трехцветки.
Двадцатое августа началось с ультиматума ГКЧП российскому правительству. В Москве ввели чрезвычайное положение, назначили военного коменданта. И все‑таки было уже не так гнусно, что‑то говорило о том, что раз переворот не удался в первые двенадцать часов, то шансы победить у него начинают падать. Люди вели себя демонстративно смело, по телефону говорили все своими словами. В 11 часов по телевизору передали пресс — конференцию ГКЧП. Это было настолько тошнотворное зрелище, что никаких иллюзий не могло остаться даже у самых твердолобых.
Непрерывно звонил телефон. Звонили из мэрии, из Моссовета, передавали информацию, спрашивали, просили что‑то передать… Ельцин объявил о переводе армии под юрисдикцию России. Десять танков подняли трехцветки и встали на защиту Белого дома. Потом передали, что десантный полк генерала Лебедя занял оборону в Белом доме. Стало ясно: у путчистов остается только один путь — штурм.
В 12 часов я был на Тверской. Возле Телеграфа она была перегорожена стеной из бэтээров, здание занято солдатами. В ста метрах от них шел митинг у Моссовета. Выступал Шеварднадзе, его встретили как героя. Переулками я добрался до Белого дома. Вокруг было так много людей, что подойти к нему было просто невозможно. На глаз — тысяч триста. Время от времени народ начинал звать Ельцина. Наконец он появился в окружении телохранителей, так как на крышах домов обнаружили снайперов. Ельцин нашел какие‑то очень нужные слова. Вообще он держался удивительно достойно и храбро.
Митинг кончился. Всех, кто только может, призывали прийти ночью к Белому дому, потому что ситуация очень мрачная: из Кремля сообщили, что решение о штурме уже принято, в Москву снова пошли войска. В этот момент пришло известие, что в Питере путч подавлен. Можешь себе представить, как это было воспринято. Люди скандировали: «Россия! Россия! Фашизм не пройдет!» В тот момент я увидел, как изменились лица людей. Все наше российское хамство мгновенно улетучилось. Все относились друг к другу необычайно бережно. Когда народ стал расходиться, я испугался — начнется давка — митинг фактически шел на баррикадах. Но ничего не случилось: мужики стали на руках переносить женщин и стариков через завалы. Генка, я не фантазирую, не утрирую, это была не толпа, это был народ, теперь я, кажется, стал понимать, что это такое.
Я пробрался к главной лестнице Белого дома, где шла запись в Народное ополчение. (Потом оно стало Национальной гвардией, спасшей Москву от анархии.) Записывались фактически все мужчины. Женщин не записывали, но это их мало заботило: уходить все равно никто не собирался. Порядок был образцовый. Никто не суетился, не кричал. Из записавшихся формировали отряды, которыми командовали отслужившие в армии. Было много «афганцев»… Картина была удивительная: тут были казаки в папахах, священники, работяги, много совсем молодых ребят и девчонок, кришнаиты со своими колокольчиками. Я встретил человек двадцать знакомых…