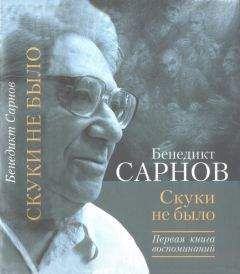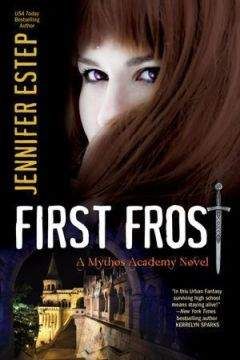Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Вторая книга воспоминаний
Вот как рассказывает об этом сам Чернышевский:
Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора «Бедных людей». Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: «Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими».
Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание».
Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения благодарности за то, что по уважению к нему избавлю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город…
Примерно так всё это и происходило на экране. С той только разницей, что зрителю не было ничего известно об обстоятельствах, предшествовавших этому странному визиту (прокламации, слухи, распространившиеся по городу, и т. п.), отчего вся ситуация становилась еще более драматической и эксцентричной.
Можете теперь представить всю сложность актерской задачи, стоявшей перед Глазковым. Она вполне могла бы оказаться не по плечу и актеру-профессионалу даже самого высокого класса.
Но Глазков-Достоевский был так убедителен, он был так искренне одержим своей «сверхценной» идеей, так естественно сочетались во всем его облике и поведении огромная сложность проделываемой им душевной работы и наивное простодушие, так трогательно верил он в свою миссию, так был естествен, так органичен и по-своему привлекателен, несмотря на очевидное безумие завладевшей им идеи, что совершенно покорил немногих зрителей, сидевших в просмотровом зале. А зрители эти — члены художественного совета, — надо сказать, были люди весьма искушенные в делах актерских и поначалу весьма скептически отнеслись к затее Хмелика, предложившего поручить столь сложную роль непрофессионалу.
Не могу сказать, чтобы Коля в этих кинопробах был так уж похож на Федора Михайловича. По-моему, его почти не гримировали: только борода напоминала о том, кого он изображал. (В жизни Коля, кажется, тогда был еще безбородым.) Но с экрана на нас смотрел живой Достоевский.
Реальный Федор Михайлович, я думаю, выглядел благообразнее, чем Коля в его роли. Но перед нами был не актер, играющий Достоевского, и даже не сам Достоевский, а — живое воплощение самого духа Достоевского, его исключительной нервной энергии, его уникального сознания. И главное, было ощущение, что перед нами человек — совершенно необыкновенный и безусловно гениальный.
Можно ли «сыграть» гениальность?
Не знаю. Вероятно, можно. По крайней мере, мне часто случалось видеть актеров, которые в жизни были не Бог весть какого ума, а играли мыслителей, мудрецов, и в мудрость созданных ими персонажей верилось безусловно.
Но Коля Глазков не играл гениального человека. И он не пытался сыграть необыкновенного человека. Он сам был необыкновенным человеком, поэтому ему только и оставалось быть самим собой. Что он и делал.
В общем, нам с Мишей было что рассказать Лиле Юрьевне, которая к фильму о Чернышевском, как говорил мне Миша, относилась с особым интересом, а от идеи попробовать на роль Достоевского Колю Глазкова была в восторге: Коля тоже был для нее свой человек, она знала и любила его так же давно, как Мишу, Бориса, Дезика и их погибших на фронте друзей.
Разговор о Чернышевском в тот вечер первого нашего настоящего знакомства тоже имел место, и об этом я еще вспомню. Но пожелала Л. Ю. меня увидеть и поближе со мной познакомиться вовсе не из-за Чернышевского и не из-за Мосфильма. Совсем не кино лежало в основе ее интереса к моей персоне.
Хотя — как сказать! — отчасти и кино тоже.
Дело было в том, что я тогда написал и напечатал статью, в которой сопоставлял ошеломивший всех нас фильм Феллини «Восемь с половиной» с поэмой Маяковского «Про это». Миша эту статью подсунул Лиле Юрьевне, и она, прочитав ее, загорелась идеей вдохновить великого итальянца на создание фильма «по Маяковскому», по этой самой его поэме «Про это». Ну, может быть, не совсем по этой поэме, но, во всяком случае, она увидела тут некий повод для возможного содружества двух гениев. Вот об этом-то она и хотела со мной поговорить.
О предстоящем нашем визите к Л. Ю. мы были оповещены заранее, и надо же было так случиться, что утром этого дня мы с женой столкнулись со Слуцким. В это время они с Таней жили уже в нашем микрорайоне, и встретить его на одной из наших улиц было немудрено.
— А мы сегодня идем к Лиле Юрьевне, — тут же сообщила Борису моя жена.
Выслушав, что идем мы к Лиле Юрьевне с Мишей и что этот наш визит к знаменитой женщине будет первым, Борис сказал:
— Значит, так, Слава. Запомните то, что я вам сейчас скажу. Первое. Прежде, чем что-нибудь сказать, мысленно сосчитайте до ста.
— До десяти, — жалобно попросила жена.
— До ста! — жестко отрубил он. — Второе. Войдя в квартиру, вы скажете: «Лиля Юрьевна, где у вас можно помыть руки?». И третье. В двенадцать часов, сколько бы вам ни говорили, что еще рано, как бы ни уговаривали посидеть еще, вы встанете и уйдете.
Последние два совета жена приняла как руководство к действию, чем сразу расположила к себе хозяйку дома. Что же касается первого Бориного указания, то его выполнить ей было гораздо труднее.
— Ну что? Как фильм? — спросила Лиля Юрьевна, едва мы успели раздеться и обменяться приветствиями.
— Да, расскажите… — тут же включилась в разговор моя жена, уже успевшая не только осведомиться, где ей можно вымыть руки, но и осуществить это ритуальное действие. Послушно выполнив, таким образом, одно из Бориных указаний, она, как видно, решила, что для начала этого хватит, и не дала себе труда мысленно досчитать даже до десяти.
— Расскажите, как там «Анна Каренина»?
Она слышала от меня, что с утверждением Татьяны Самойловой на роль Анны были какие-то сложности (генеральный директор Мосфильма сказал, что не Самойловой, с ее внешностью горняшки, играть аристократку), и решила, что Лиле Юрьевне тоже не терпится узнать, чем кончился этот конфликт. Ну и, конечно, попала пальцем в небо.
— Вот уж что меня совсем не интересует, — пренебрежительно отмахнулась Л. Ю., — так это ваша «Анна Каренина». Я спрашиваю про Чернышевского…
Эту реплику моя жена — слава Богу! — оставила без ответа. То ли вовремя вспомнила совет Слуцкого, то ли просто лишилась дара речи, услыхав, что Чернышевский для Л. Ю. интереснее Толстого.
Для меня не было сомнений, что пренебрежительный тон Л. Ю. по отношению к «Анне Карениной» и то явное предпочтение, которое она отдала Чернышевскому перед гениальным творением Льва Толстого, вовсе не свидетельствовали о ее дурном литературном вкусе. Чернышевский был ей интересен не как художник. И не как социальный пророк и мыслитель.
Даже Маяковский говорил, что «жить и любить надо по заветам Чернышевского». Ну а уж Лиля… Тут и говорить нечего! Для нее Чернышевский был прежде всего провозвестник сексуальной свободы, предтеча грядущей (теперь уже не грядущей, а свершившейся) сексуальной революции. В сравнении с радикальными идеями Николая Гавриловича робкий сексуальный бунт толстовской Анны Карениной был просто детским лепетом. А сам Лев Николаевич, сурово осудивший этот ее жалкий бунт и жестоко наказавший свою героиню («Мне отмщение и аз воздам») и вовсе выглядел мракобесом, моральным держимордой, махровым реакционером.
Но не мог же я — тут же, при всех — объяснить всё это моей жене!
Единственное, что я мог сделать, — это кидать на нее время от времени то грозные, то умоляющие взгляды, напоминающие про первый — главный — совет Слуцкого.
Я сразу оценил важность этого совета. Может быть, это была моя ошибка, но двумя другими ни разу даже и не подумал воспользоваться. А что касается первого, то не раз приходило мне в голову, что обратить его Борису следовало не только к моей жене, но и ко мне тоже.