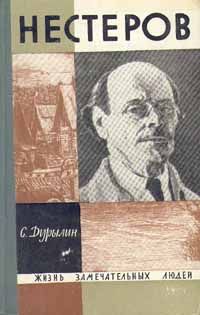Сергей Дурылин - Нестеров
Он был доволен углем.
Близкие к Черткову, наоборот, не совсем-то были довольны. Художнику указывали, что возраст и внутренняя работа над собой изменили характер Черткова. Он сознавал в себе недостаток – властность, и поборол его.
На это Нестеров рассказывал Сергеенко, как Чертков в Кисловодске хотел его обратить в свою веру: «Чертков – он нетерпимый. Он крутой и властный».
«Мы сказали, – вспоминает Сергеенко, – Михаил Васильевич, это у вас Иоанн Грозный.
А он:
– А он такой и есть. Силища!»
Портретом как художественной задачей Нестеров увлекся.
По словам Сергеенко, «он ехал на каждый сеанс как бы в некотором подъеме, как новичок волнуясь перед выходом. Он, бывало, отправлялся на сеанс с Сивцева Вражка в Лефортово как бы в торжественном настроении. Был возбужден, много и оживленно говорил. Иногда, наоборот, признавался: «Не очень хорошо себя чувствую. Плохо спал. Сил нет». Но приезжал, работал, об усталости не было и помину, сеансом был доволен. И сам делился своим недоумением: «Какая тайна это? Так нехорошо чувствовалось, а работать хорошо. Отчего это? Какая тайна!»
Работа была трудна тем, что Чертков был очень стар, почти утерял речь, легко впадал на сеансах в дрему. А художнику хотелось написать не развалину-человека, покрытую мирным инеем зимы, а живого человека, с не-развалившимся, стройным зданием своего характера, своей личности. Чтобы бороться с дремой Черткова, решено было, что Сергеенко станет читать вслух.
«Начали читать «Смерть Ивана Ильича», – рассказывал мне Нестеров. – Чертков плакал. Писать было невозможно. Тогда в следующий раз решили читать что-нибудь менее сильное – читали разные письма к Л.Н. Толстому».
Сергеенко вспоминает:
«Когда стало обнаруживаться жестокое выражение лица на портрете, Черткова это стало смущать. Он попросил принести свои последние фотографии и показывал их Нестерову, желая убедить его, что на них он похож больше, чем на портрете».
Но Нестеров был непреклонен. Он делал не красочный снимок с расслабленного старика, желающего перед смертью быть мягким и добрым со всеми, – он писал портрет с В.Г. Черткова.
Окружающие Черткова начали понимать, что у Нестерова есть образ-идея этого портрета, от которой он не хочет и не может отойти.
«Идея это была, – верно формулирует ее Сергеенко, – сильный человек с крепкой волей». Что интересовало его, это роль Черткова около Толстого.
– Друг-то друг, – говорил Михаил Васильевич, – это так, но он и давил на Толстого. А все-таки не мог заставить его уйти из Ясной Поляны раньше.
– Михаил Васильевич, ну как Чертков мог его заставить?
– Чертков? Он все мог заставить.
От Нестерова не раз приходилось слышать, что портрет Черткова для него в некотором роде исторический портрет. Это портрет не только того, кто написал книжку «Злая забава» против охоты, стал вегетарианцем, опростил свою жизнь, издавал книжки «Посредника» для народа, переписывал и распространял запрещенные произведения Л. Толстого, – это и портрет того, кто был когда-то блестящим гвардейцем, которого прочили во флигель-адъютанты к царю, это портрет наследника огромных степных имений, равных по населению целому немецкому «великому герцогству», это портрет потомка тех властных бар, придворных вельмож и степных магнатов, которые безответно властвовали над тысячами крепостных душ.
Нестеров засматривался в Черткове на эту гордую родовитость, на эту вельможную стать, скрывающуюся под блузой толстовца, Нестеров всматривался зорко в эту веками окрепшую властность, не истребленную никаким «непротивлением», в эту породистую красоту, не усмиренную никаким «безубойным питанием», и все это хотел отразить и отразил в чертах Черткова на своем портрете.
Этот портрет меньше всего годится для иллюстрации к жизнеописанию первого из толстовцев. Но он превосходно выражает подлинного Черткова – не в часы его мирного старческого истаиванья, а того Черткова, который, порвав с придворным кругом и «не противясь злу», на деле яро боролся с царским правительством, с православною церковью, устраивал переселения духоборов в Канаду и всячески «воинствовал» за Толстого, ради Толстого, вокруг Толстого – воинствовал, случалось, и с самим Толстым.
На последних двух сеансах (их было всего пятнадцать, по три часа каждый) Нестеров объявил:
– Кажется, кончил. Если дальше буду работать, буду портить.
По словам Сергеенко, «на последнем сеансе он чрезвычайно удлинил кресло, и вместе с тем удлинил руку Черткова.
Я спросил:
– Почему это?
Михаил Васильевич ответил:
– А так это нужно.
– У Владимира Григорьевича серые глаза. А они написаны синими. Отчего это?
Ответ Нестерова был:
– А я их вижу синими».
В глазах Черткова Нестеров нашел удивительное сочетание чего-то драгоценного, спокойно-сапфирного с ястребиным по зоркости, по пылкости.
А руки Черткова, в особенности правая, – величаво лежащая на ручке кресла, – принадлежат к лучшим у Нестерова.
В один из сеансов с Чертковым зашла речь о руках. Кто-то вспомнил, что Л.Н. Толстой однажды сказал: «Руки – один из самых выразительных органов человека».
– Он совершенно прав! – пылко отозвался Нестеров. – Руки говорят.
Портрет простоял несколько дней у Черткова.
Вот что я записал в 1939 году со слов М.В. Нестерова:
«Когда портрет был окончен, Чертков обратился к Михаилу Васильевичу с просьбой написать на его лице слезу.
Давнему последователю учения о самосовершенствовании и непротивлении хотелось, чтобы на лице его было умиление и благость.
Нестеров отвечал:
– Я не видел у вас никакой слезы, видел только, как вы плакали при чтении «Ивана Ильича». Но это другое дело. А чего не видал, того я не могу написать.
Нестеров выставил портрет Черткова на своей выставке 1935 года.
Портрет радовал мягкой бархатистостью тона, какой-то матовой теплотою и изяществом колорита – и поражал вместе с тем силою характеристики, ее смелым реализмом при изящном благородстве всего облика Черткова.
Горький, остановившись вместе с Нестеровым на его выставке перед портретом Черткова, признался:
– Не люблю я этого человека.
А сам Нестеров в ответ на полупохвалы, полуупреки близких Черткова отвечал прямо:
– Им не очень нравится портрет. Они считают, что Чертков добрее. А вот у Горького, за жесткими его усами я чувствую эту доброту, а у Черткова нет.
В 1936 году Нестеров написал два женских портрета. Всегда к женским портретам он приступал с какою-то особою мнительностью – неуверенностью в себе. Но к женским портретам Нестерова тянуло, и особенно усилилась эта тяга именно к концу жизни; большинство портретов конца 1930-х – начала 1940-х годов – женские.