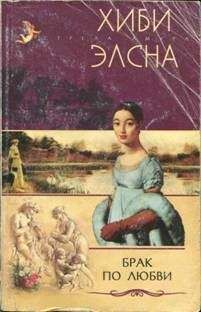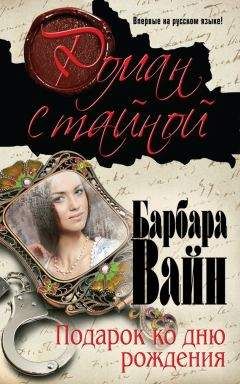Ирвинг Стоун - Жажда жизни
Надо было найти постоянное жилище и настоящую мастерскую.
Однажды вечером, идя со стариком Руленом по площади Ламартина, он увидел на доме, выкрашенном в желтый цвет, в двух шагах от гостиницы, объявление: «Сдается внаем». Дом состоял из двух крыльев, с двором посередине. Винсент остановился, в задумчивости оглядывая его.
– Великоват немного, – сказал он Рулену. – А то я бы поселился в таком доме.
– Нет нужды снимать весь дом, господин Ван Гот. Вы можете снять, скажем, одно только правое крыло.
– Верно! Сколько, по—вашему, там комнат? Во сколько мне это обойдется?
– Кажется, там три или четыре комнаты. А обойдутся они вам очень дешево, вдвое дешевле, чем номер в гостинице. Если хотите, завтра во время обеда мы зайдем сюда и посмотрим дом. Может быть, я помогу вам сторговаться.
Наутро Винсент был так взволнован, что уже не мог ни за что взяться – он бродил по площади Ламартина и осматривал дом со всех сторон. Дом был прочный и очень светлый. При более тщательном осмотре Винсент увидел, что там имеются два отдельных входа и что левое крыло уже занято.
В обеденный час явился Рулен. Они вместе вошли в правое крыло дома. Из прихожей они попали в большую комнату, потом в другую, поменьше. Стены были чисто выбелены. Пол в прихожей и лестница, ведущая на второй этаж, были выложены гладким красным кирпичом. Наверху оказалась еще одна просторная комната и кладовая. Полы в комнатах были из красных керамических плиток, на белых стенах играло и искрилось яркое солнце.
Наверху их ждал хозяин, заранее предупрежденный запиской Рулена. Несколько минут он разговаривал с Руленом на быстром провансальском наречии, и Винсент ничего не понял. Потом Рулен сказал Винсенту:
– Он непременно хочет знать, на какой срок вы снимаете квартиру.
– Скажите ему, что навечно.
– Вы согласны гарантировать хотя бы шесть месяцев?
– Ну, разумеется!
– В таком случае он сдаст вам квартиру за пятнадцать франков в месяц.
Пятнадцать франков! И это почти за целый дом! Всего—навсего треть того, что он платил за номер в гостинице. Даже мастерская в Гааге стоила ему дороже. Постоянное, удобное жилище за пятнадцать франков в месяц! Он торопливо вынул деньги из кармана.
– Вот! Скорее же! Отдайте их ему. Дом снят.
– Хозяин хочет знать, когда вы сюда переберетесь, – сказал Рулен.
– Сегодня. Сейчас же.
– Но, господин—Ван Гог, у вас нет мебели. Как вы тут устроитесь?
– Я куплю тюфяк и стул. Рулен, вы и представить себе не можете, что значит жить в проклятых гостиницах. Я должен переехать сюда немедленно.
– Что ж, как вам будет угодно.
Хозяин удалился. Рулен пошел обратно на службу. Винсент бродил из одной комнаты в другую, несколько раз поднимался и спускался по лестнице, снова и снова осматривая каждый уголок своих владений. Пятьдесят франков от Тео он получил только накануне; из них почти тридцать еще лежали у него в кармане. Он вышел на улицу, купил дешевый тюфяк и стул и принес их в дом. Он решил, что в нижней комнате у него будет спальня, а наверху – мастерская. Он кинул тюфяк на красные гладкие плиты, втащил стул в мастерскую и в последний раз пошел в гостиницу.
Хозяин гостиницы под каким—то вздорным предлогом приписал к счету лишних сорок франков. Он отказался отдать Винсенту его полотна, пока не получит денег. Чтобы вернуть полотна, Винсенту пришлось обратиться в полицию, по половину требуемых хозяином денег с него все—таки взыскали.
К вечеру ему удалось найти торговца, который согласился дать ему в кредит керосинку, два горшка и лампу. У Винсента осталось всего—навсего три франка. Он купил немного кофе, хлеба, картошки и кусок мяса на суп. Денег у него теперь совсем не осталось. В нижней маленькой комнатке он устроил кухню.
Когда над площадью Ламартина спустилась ночь, Винсент на керосинке сварил себе кофе и суп. Стола у него не было, поэтому он расстелил на тюфяке газету, поставил на нее еду, и, скрестив ноги, уселся на пол ужинать. Купить нож и вилку он позабыл. Пришлось выуживать мясо и картофель из горшка рукоятью кисти. По этой причине еда слегка отдавала масляной краской.
Покончив с ужином, он взял керосиновую лампу и по красным кирпичным ступеням поднялся наверх. Мастерская была голой и пустынной, в лунном свете лишь одиноко торчал застывший мольберт. За окном темнел сад на площади Ламартина.
Винсент лег спать на тюфяке. Проснувшись утром, он отворил окно и увидел зелень сада, встающее солнце и дорогу, извивами уходящую в город. Он поглядел на гладкие красные плитки пола, на белые, без единого пятнышка, стены, на удивительно просторные комнаты. Потом сварил кофе и расхаживал по дому с чашкой в руках, обдумывая, как он обставит свое жилище, какие картины развесит на стенах и как счастливо заживет в этом чудесном доме, – своем собственном доме.
На следующий день Винсент получил письмо от своего друга Поля Гогена; больной и совсем обнищавший, он застрял в грязном кафе в Понт—Авене, в Бретани. «Я не могу вырваться из этой дыры, – писал Гоген, – потому что мне нечем заплатить по счету, и хозяин держит мои картины под замком. Изо всех несчастий, какие выпадают на долю человека, ничто меня так не бесит, как безденежье. Но я чувствую себя обреченным на вечную нищету».
Винсент думал о художниках всей земли, – издерганных, больных, бедствующих: все сторонятся их, насмехаются над ними, они голодают и мучаются до смертного часа. За что? В чем их вина? За какие грехи стали они отверженными? Как находят в себе силы эти парии, эти гонимые души создавать что—то хорошее? Художник будущего – ах, это будет такой колорист и такой человек, каких еще не видел мир! Он не станет жить в жалких кафе и не пойдет в бордели, где бесчинствуют зуавы.
Бедняга Гоген. Гниет заживо в какой—то поганой дыре в Бретани, хворый, не в силах работать, без друзей, которые помогли бы ему, без единого сантима в кармане, чтобы купить хлеба или позвать врача. Винсент считал Гогена великим живописцем и великим человеком. А если Гоген умрет! Или вдруг ему придется бросить работу! Это будет трагедия для искусства.
Винсент сунул письмо в карман, вышел из дома и побрел по набережной Роны. Груженная углем баржа пришвартовалась к пристани. Мокрая от прошедшего дождя, баржа вся сняла. Вода была желтовато—белой и жемчужно– серой. Сиреневое небо на западе отливало оранжевым, город казался фиолетовым. Грязные грузчики в синей и белой одежде сновали взад и вперед, таская уголь на берег.
Это был чистейший Хукосаи. И Винсенту вспомнился Париж, японские гравюры в лавочке папаши Танги... и Поль Гоген, которого он любил больше всех остальных своих друзей.