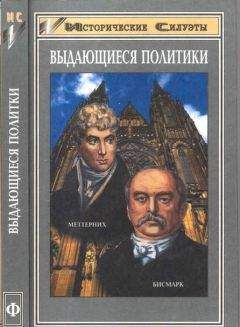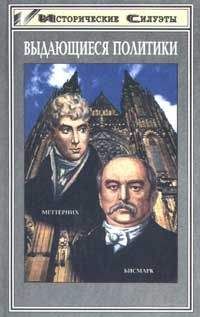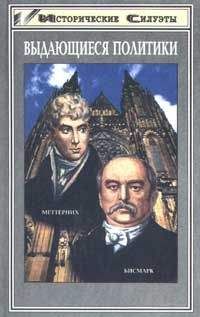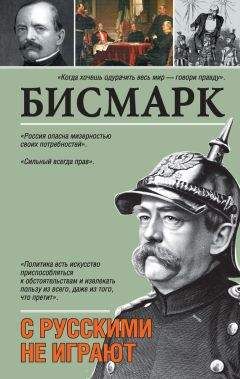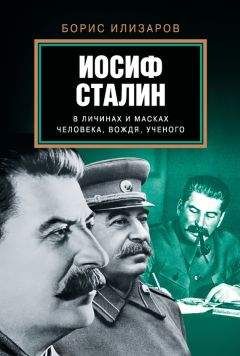Борис Илизаров - Почетный академик Сталин и академик Марр
Язык есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и (“в соединении слов”, сначала это было зачеркнуто, а в окончательном варианте восстановлено. – Б.И. ) в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе… Следовательно , без языка, понятного для общества и общего для его членов, общество прекращает производство , распадается и перестает существовать, как общество. В этом смысле язык (“есть” – зачеркнуто), будучи орудием общения, является вместе с тем орудием борьбы и развития общества» {457} и т. д. Сталин, как колдовскую формулу, двенадцать раз (!) повторил связку «язык – общество». Ничего принципиально нового по сравнению с первым разделом статьи ни в плане идей, ни в плане аргументации в этом разделе не найдем. Вновь раз за разом он манипулирует понятием об основном словарном фонде «куда входят и все корневые слова, как его ядро. Он гораздо менее обширен, чем словарный состав языка, но он живет очень долго, в продолжение веков и дает языку базу для образования новых слов. Словарный состав отражает картину состояния языка: чем богаче и разностороннее словарный состав, тем богаче и развитее язык » {458} . В первом варианте он несколько раз пытался сформулировать эту мысль, прежде чем остановиться на приведенном тексте. Это лишний раз доказывает, что Сталин самостоятельно формулировал основные положения статьи и сам письменно оформлял не принадлежащие ему соображения. Например, как будто внезапно открывшуюся только ему одному великую истину сообщает (в первом варианте), казалось бы, тривиальное, почерпнутое из обычного словаря или учебника: «Грамматика, грамматический строй языка представляет собрание правил об изменении слов, собрание правил о сочетании слов в предложении и, таким образом, дает человеческим мыслям облечься в материальную языковую оболочку» {459} . На самом деле именно здесь он попытался скрыто применить открывшуюся только ему истину: «Язык – материя духа». Оказывается, именно грамматика дает «человеческим мыслям облечься в материальную языковую оболочку». Затем, видимо, понимая, что доказать прямую связь между грамматикой и развитием человеческого мышления затруднительно, Сталин зачеркивает текст и на полях пишет: « Не то». Затем тут же на полях и поверх старого текста небрежно, нечетко и с помарками нехотя набрасывает явно взятое из учебника: « Грамматика (морфология, синтаксис) есть собрание правил об изменении слов и сочетании слов в предложении». И тут же добавляет: « Язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку». После этого перечеркнул ранее написанную фразу «Не то». Значит, теперь добился желаемого. От кого и как «язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую (?) оболочку», непонятно. С небольшой редакторской правкой текст вошел во второй вариант статьи и в публикацию {460} .
Затем Сталин на нескольких страницах на разные лады говорит о великой роли грамматики и вновь и вновь об общественной надстройке и базисе, об уже давно обозначенном им месте языка в этой системе и вновь о невероятной живучести национального языка {461} . Для того чтобы простой читатель легче уяснил связь между «словарным составом языка» и его грамматикой, Сталин прибегает к сравнениям и аналогиям. В одном случае он сравнивает словарный состав языка со строительными материалами, которые, по его мнению, сами по себе ничего не значат, но они «получают величайшее значение», когда поступают «в распоряжение грамматики языка, которая определяет правила изменения слов, правила соединения слов в предложении и, таким образом, придает языку стройный, осмысленный характер» {462} . Такое впечатление, что Сталину кто-то устно растолковал роль грамматики, а он это толкование изложил на бумаге для миллионной читательской аудитории «Правды» [24] . В другом случае Сталин в полном соответствии с классической компаративистской доктриной, заявил, что «грамматика есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления» {463} . «В этом отношении, – уточнял он, – грамматика напоминает геометрию, которая дает свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы, как тела, лишенные конкретности, и определяя отношения между ними не как конкретные отношения, каких-то конкретных предметов, а как отношения тел вообще, лишенные какой бы ни было (зачеркнуто: “всякой”) конкретности». В окончательном варианте вернул: «всякой конкретности» {464} . (Все же удивительно, как писатель Солженицын угадал некоторые мыслительные ходы вождя!)
Все более входя в новую роль «корифея языкознания», Сталин не удержался и в последнем варианте приписал карандашом после такого вывода: «Таким образом, грамматический строй языка и его основной словарный фонд составляют основу языка, сущность его специфики.
Некоторые историки вместо того, чтобы объяснить это явление, ограничиваются удивлением. Но для удивления нет здесь каких-либо оснований. Устойчивость языка объясняется устойчивостью его грамматического строя и основного словарного фонда» {465} . По большому счету, здесь уже нечего анализировать. Сосредоточимся на нескольких любопытных деталях. Одна из них связана с известным памятником древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» и с попыткой Сталина с ходу наметить основные этапы истории развития русского языка.
«Надо полагать, – написал Сталин в первом варианте статьи, – что элементы современного языка были заложены еще в глубокой древности, до эпохи рабства. Это был язык не сложный, с очень скудным словарным фондом, но со своим грамматическим строем, правда, примитивным, но все же грамматическим строем.
Дальнейшее развитие производства, зарождение классов, появление письменности, зарождение государства, нуждавшегося для управления в более или менее упорядоченной переписке, наконец, развитие торговли, еще более нуждавшейся в упорядоченной переписке, вызвали, по всей вероятности, большие изменения в языке. За это время племена и народности дробились и расходились, смешивались и скрещивались, внося изменения в язык. И все же язык развивался и изменялся не в порядке отмены старого и постройки нового, а в порядке развертывания и совершенствования основных элементов языка. При этом переход от одного качества языка к другому качеству происходил не путем взрыва, не путем разового уничтожения старого и постройки нового, а путем постепенного и длительного накопления элементов нового качества, новой структуры языка» {466} . Перечитав этот машинописный текст и сделав незначительные исправления, Сталин подчеркнул начало предложения: «И все же…», а на полях сам себе написал: « Не то ». В окончательном варианте вычеркнул середину второго абзаца и после слов «нуждавшейся в упорядоченной переписке» заново написал: « …появление печатного станка, развитие литературы, – все это внесло большие изменения в развитие языка. За это время племена и народности дробились и расходились, смешивались и скрещивались, а в дальнейшем появились национальные языки и государства, произошли революционные перевороты, сменились старые общественные строи новыми.