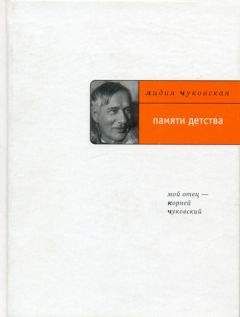Лидия Чуковская - Записки об Анне Ахматовой. 1952-1962
– Нет, – сказала Анна Андреевна. – Тут не то. Это история общечеловеческая. Тут то, о чем мы с вами только что говорили.
– Нельзя перенести второй раз?
– Да. Страх. В крови остается страх. Чаадаев испугался повторения. Осип после первой ссылки воспел Сталина. Потом он сам говорил мне: «это была болезнь». Сохранились допросы Жанны д'Арк. На третьем ей показали в окно приготовленный заранее костер. И она отреклась. На четвертом снова стала утверждать свое. Ее спросили: почему же вы вчера были согласны? «Я испугалась огня».
Молчание. Мы обе поглядели в окно.
– «Я испугалась огня», – повторила Анна Андреевна нежным, берущим за душу, жалобным голосом. И еще раз по-французски: «…J'ai peur du feu»…30S
Разговор переменился. Анна Андреевна достала откуда-то целую папку своих фотографий – старых, новых… Из старых (то есть молодых) восхитительна одна: Ахматова в виде сфинкса, лежит на каменном цоколе в Шереметевском саду; лежит на животе, опираясь на руки, развернув плечи и подняв голову: более тонкой и прекрасной линии от затылка до кончика ног я никогда не видала… Из поздних очень она хороша возле жасминного куста, в белой шали, с собакой Гитовича. А в итальянской книге опубликована ташкентская фотография (та самая, «Моему капитану»). Теперь она разошлась по всему свету. Я рада[449].
Анна Андреевна спросила о здоровье Корнея Ивановича, потом – работает ли он над предисловием к «Поэме»? Узнав, что Дед разыскивает портрет Судейкиной в костюме Псиши, встревожилась:
– Пусть Корней Иванович не слишком опирается на конкретную сторону биографии Ольги Афанасьевны. Это ведь не совсем она, только физический облик ее, это героиня времени, а не она[450].
Потом спросила меня, что я теперь читаю. Я ответила: Цветаеву. Я люблю у нее очень немногое, но люблю сильно.
– Например?
– Сейчас, например, люблю «Куст».
Я объяснила: трудно было запомнить эти стихи наизусть, но я читаю их каждому кусту, каждому дереву, а ведь живу я в лесу! и ветки врываются мне в окно, чуть только я распахиваю окошко настежь первым утренним движением; и дуб, и сосны, и ели, и кусты неразлучны со мною, когда я сажусь на крыльцо работать.
Я прочла:
Что нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня
Которую – голову прячу
В него же (седей день от дня!)
Сей мощи, и пл щи, и гущи —
Что нужно кусту – от меня?
Имущему – от неимущей?
А нужно! Иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б – тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,
Что только кустом не пуста:
Окном моих всех захолустий.
Что́, полная чаша куста,
Находишь на сем – месте пусте?
Эолова арфа куста!
Чего не видал (на ветвях
Твоих – хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?
Чего не слыхал (на ветвях
Молва не рождается в муках!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания звуках?
Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу,
Да разве я то́ говорю,
Что знала, пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
Губ, той – за которой осколки…
И снова во всей полноте
Знать буду, как только умолкну.
А мне от куста – не шуми
Минуточку, мир человечий!
А мне от куста – тишины:
Той, между молчаньем и речью.
Той, можешь – ничем, можешь – всем
Назвать: глубока, неизбывна.
Невнятности! Наших поэм
Посмертных – невнятицы дивной.
Невнятицы старых садов,
Невнятицы музыки новой,
Невнятицы первых слогов,
Невнятицы Фауста Второго.
Той – до всего, после всего.
Гул множеств, идущих на форум.
Ну – шума ушного того,
Все соединилось в котором.
Как будто бы все кувшины
Востока – на знойное всхолмье.
Такой от куста – тишины,
Полнее не выразишь: полной307.
– Великолепно, – сказала Анна Андреевна. – Богато, пышно, полновесная строка. Этому она у Рильке училась. Она и Пастернак.
И попросила прочитать еще раз.
И я, читая, снова почувствовала, какое счастье захлебываться этими стихами – свободно-вдохновенны-ми, безмерными, свободно льющимися и в то же время вырезанными с совершенною точностью, как вырезан, например, дубовый лист. А вот стихи Цветаевой Пушкину, призналась я, я совсем не люблю. Они лишены вдохновения, претенциозны, искусственны (быть может, только «Нет, бил барабан» лучше других). А то какие-то словесные экзерсисы, ремесленнические ухищрения; звука нет, словно человек не на рояле играет, а на столе. И мысли, в сущности, небогатые: «Пушкин – не хрестоматия, Пушкин – буйство». Так ведь это еще до нее Маяковский провозгласил, а еще до него – Тютчев.
– Марине нельзя было писать о Пушкине, – сказала Анна Андреевна. – Она его не понимала и не знала. Стихи препротивные. Мы еще с Осипом говорили, что о Пушкине Марине писать нельзя…
Потом Анна Андреевна показала мне стихи Иосифа Бродского, поднесенные ей вместе с розами. Из этих стихов молодого поэта она и взяла строчку «Вы напишете о нас наискосок» – взяла эпиграфом к своему стихотворению «Последняя роза»[451].
23 сентября 62 Утром звонила Анна Андреевна и, как водится, требовала, чтобы я появилась немедля. Но я не могла и пришла только вечером.
Она – у Ники. Высоченный домище на Садово-Каретной. 8-й этаж, лифт. Большая коммунальная квартира. Некрасиво вытянутая в длину комната; ее некрасивость смягчена изобилием книжных полок и ламп. За стенкой ощущается мама и продолжение книжных полок. Анна Андреевна в платке, в кольцах, королевой сидит в кресле; перед ней маленький полированный столик. Ника молчаливо приветлива. Анна Андреевна рассказала, что сегодня ее постигла неудача. Она съездила к Эмме в Голицыно, не застала, очень утомилась в машине и отлеживалась потом у Наташи. Скоро пришел Самойлов. Ника очень изящно подала чай. Анна Андреевна рассказала, что Нина Берберова за границей опубликовала всего Ходасевича. Тираж книги – 600 экземпляров. Анна Андреевна через кого-то просила передать ей, что у нас книга мгновенно разошлась бы десятимиллионным тиражом. (Я: «Но у нас бы ее вообще не напечатали. Никаким тиражом».) О Ходасевиче Анна Андреевна отозвалась с большой любовью… Рассказала, что «Новый мир» хочет взять у нее цикл стихотворений, но Караганова (тамошняя редакторша) почему-то не желает сонет («Я тогда отделалась костром»)[452]… Иосиф Бродский, спасающийся от ленинградского КГБ, молодой поэт, которого преследуют невесть за что, под тем предлогом, будто он тунеядец, – живет сейчас в Москве – у Корниловых.