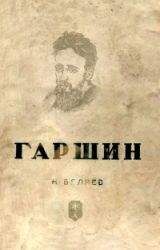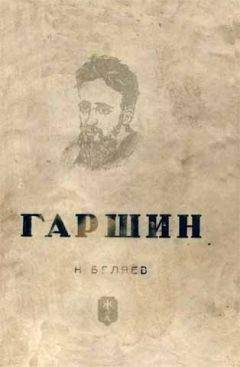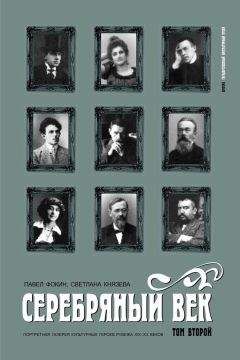Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
«Классной дамой нашей, однако, мы были довольны, больше того: почти все „влюблены“. Софья Васильевна Бонашевская, только что кончившая „пепиньерка“ – непрерывно краснеющая нежная блондинка, в закрытом, изящном шелковом или суконном платье, обращалась с нами ласково и осторожно… Софья Васильевна очень дружила с Мариэттой Шагинян – та имела преимущество 8-классного синего платья и ходила свободно все перемены с ней под руку. Они представляли чудесный контраст: изумительные черные с синеватым отливом косы, желтовато-персиковый цвет лица, густые, крепкие брови над безблесными огромными черными очами сильной, мужественной Мариэтты рядом с невинными, почти кукольными глазками под золотым, легким руном прически и ангельски тонким, томным силуэтом Софьи Васильевны.
Одно из своих первых литературных произведений, поэму в стихах „Красные башмаки“, Мариэтта прочла и посвятила Софье Васильевне» (Н. Серпинская. Флирт с жизнью).
«Рассуждения Мариэтты Сергеевны увлекали многих, и если не всегда казались логически убедительными, то неизменно пленяли каким-то ей одной свойственным сочетанием острого, приглядистого ума и совершенно неожиданной наивности. Среди молодежи ее принято было в те времена именовать „Минервой“, но она меньше всего была похожа на спокойную, рассудительную богиню. В огромных черных очках, с головы до ног окутанная серым платком, чуть склонив набок голову, Мариэтта Сергеевна жадно прислушивалась к кипевшему словопрению, готовая каждую минуту и сама ринуться в ожесточенный костер схватки» (Вс. Рождественский. Страницы жизни).
«Мариэтта Шагинян угощала меня пирожками и говорила: „Мне особенно трудно работать с большевиками (в „Правде“), что я христианка, я все думаю соединить это свое с ними, как соединяется Новый завет с Ветхим. Меня выгоняют отовсюду, но я не обижаюсь, у меня большой запас любви. Я христианка, но сознаю, что христианство не могло удержать людей от катастрофы, значит, надо как-то искать других путей, вот я ищу…“
Она просто очаровательна, умна, полна ласки для встреч по сердцу, – хорошая, но почти глухая, почти слепая» (М. Пришвин. Дневники. 1922).
ШАЛЯПИН Федор Иванович
Певец (бас), мемуарист. На сцене с 1890. Партии: Бертрам («Роберт-Дьявол» Мейербера), Фарлаф («Руслан и Людмила»), Сусанин («Жизнь за царя» Глинки), Иван Грозный («Псковитянка» Римского-Корсакова), Олоферн («Юдифь» Серова), Сальери («Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова), Борис Годунов («Борис Годунов» Мусоргского), Мефистофель («Мефистофель» Бойто), Демон («Демон» Рубинштейна), Дон Кихот («Дон Кихот» Массне), Филипп II («Дон Карлос» Верди) и др. Книга воспоминаний «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах». С 1922 – за границей.
«Голос, тембры и дикция Шаляпина были таковы, что этих „трех измерений“ было бы достаточно для увековечения его имени в потомстве, если бы даже природа в отношении, так сказать, физического естества его обидела. То есть если бы у него не было этого большого лица, которое „одинаково легко было гримировать под лица царей и дьяволов, пьяниц и вельмож, преступников и философов“; ни этой, по выражению Стасова, „великанской фигуры“, которая в гибкости и скульптурности могла соперничать с любым балетным артистом; „ни этих рук, пальцы которых так выразительно разговаривали языком угрозы и подхалимства, пристрастия и величия, хитрости и ласки“.
Станиславский требовал, чтобы пальцы „звучали“. Я должен отметить, что ни у кого другого я таких „звучащих“ пальцев, как у Шаляпина, не видел.
Без грима и костюма Шаляпин умел в любом концерте показать такой калейдоскоп образов, что иной раз, особенно при резком переходе в бисах от какого-нибудь „Ночного смотра“ к „Титулярному советнику“, слушатель ощупывал себя: а не происходит ли все это во сне?
Всеми своими дарами Шаляпин пользовался с неповторимым мастерством и тактом» (С. Левик. Записки оперного певца).
«Поражало в нем не столько мастерство оперного певца, сколько некая звучащая стихия, для которой „законы не писаны“, потому что она сама творит закон, исходя не от школьной преемственности (от других певцов-предшественников на европейских сценах), а откуда-то изнутри, из недр национального духа, как народные песни и былинный эпос.
Стихия вредила Шаляпину-человеку. Он казался подчас грубоватым, даже беспощадным на фоне созданных им сценических образов, отразивших всю гамму глубоких человеческих чувств. Богатырская индивидуальность не умещалась в обычных рамках, взрывчатое воображение как бы выбрасывало ее за пределы действительности. Шаляпин в жизни поневоле продолжал ощущать себя на сцене, не столько жил, сколько „играл себя“, и от наития данной минуты зависело, каким, в какой роли он себя обнаружит. Эта большая жизнь в непрестанной работе над самоусовершенствованием и в непрерывных триумфах – со спектакля на спектакль, из города в город по всему миру – была сплошным лицедейством. Меня не удивило, когда мне сказал приятель, часто бывавший у Шаляпина перед его смертью: „Какой великий артист! Представьте, даже на краю могилы, сознавая, что близок конец, он чувствует себя как на сцене: играет смерть!“
Для таких абсолютных творцов-художников стираются грани между реальным и призрачным.
…Не было, кажется, художника взыскательнее к себе. До последних лет жизни Шаляпин не переставал вырабатывать свои роли, не полагаясь на „вдохновение“, на взволнованную импровизацию, а добиваясь законченной формы в мельчайших подробностях игры, в каждом дополняющем пение жесте. И все музыкальные фразы доводил он с неимоверным терпением до этой завершенности. Если же не добивался результата, то – иногда после долгой работы – попросту отказывался от роли. Этим объясняется сравнительно небольшой его репертуар. Не от лени – напротив, от избытка трудолюбивой честности.
…Возведение оперы в ранг музыкальной драмы, в сущности, идет от Шаляпина. В излюбленных им операх он знал все наизусть – партии всех партнеров и каждую ноту партитуры. Надо было видеть его на иных репетициях… Случалось, отстранит капельмейстера, возьмет у него из рук палочку и покажет оркестру, как оттенить тот или иной пассаж.
…Роль он не только выучивал безупречно, оттачивая неутомимо каждый звуковой эффект, каждый замедляющий вздох и каждое говорящее fermato: он переживал роль, лепил ее психологически такт за тактом, собирая подсобный материал где только мог – в книгах, в беседах с литераторами и живописцами, вообще с людьми сведущими, в наблюдениях над типами людей, напоминавших ему вынашиваемый образ.