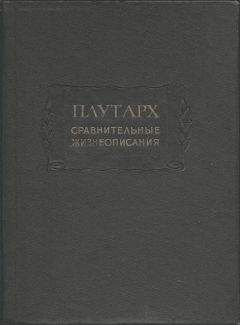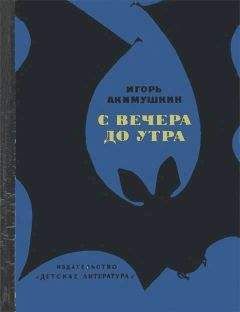Плутарх - Сравнительные жизнеописания
Когда и священнослужители возвратились ни с чем, римляне решили запереться в городе и со стен отражать натиск врагов, возлагая надежды главным образом на время и неожиданное стечение обстоятельств, ибо сами не видели для себя никаких путей к спасению, и город был объят смятением, страхом и дурными предчувствиями, пока не случилось событие, до некоторой степени сопоставимое с тем, о чем не раз говорится у Гомера, но что для многих звучит не слишком убедительно. Так, например, когда речь заходит о действиях важных и неожиданных и поэт восклицает[20]:
Дочь светлоокая Зевса, Афина, вселила желанье.., —
или в другом месте:
Боги мой гнев укротили, представивши сердцу, какая
Будет в народе молва.., —
или еще:
Было ли в нем подозренье иль демон его надоумил, —
многие с порицанием относятся к подобным словам, считая, будто невероятными измышлениями и не заслуживающими доверия россказнями Гомер отрицает способность каждого человека к разумному и свободному выбору. Но это неверно, напротив, ответственность за все обыденное, привычное, совершающееся в согласии со здравым смыслом, он возлагает на нас самих и часто высказывается так:
Тут подошел я к нему с дерзновенным намереньем сердца, —
или:
Рек он, – и горько Пелиду то стало: могучее сердце
В персях героя власатых меж двух волновался мыслей, —
или еще:
...Но к ищущей был непреклонен,
Чувств благородных исполненный, Беллерофонт непорочный[21].
В действиях же опасных и необычайных, требующих вдохновения и как бы порыва восторга, он изображает божество не отнимающим свободный выбор, но подвигающим на него, внушающим не решимость, но образы и представления, которые приводят за собою решимость, а стало быть, отнюдь не превращает действие в вынужденное, но лишь кладет начало добровольному действию, укрепляет его бодростью и надеждой. Либо следует вообще отвергнуть божественное участие в причинах и началах наших поступков, либо, по всей видимости, боги оказывают людям помощь и содействие не прямо, а несколько иным образом: ведь они не придают ту или иную форму нашему телу, не направляют движение наших рук и ног, но с помощью неких первооснов, образов и мыслей пробуждают действенную и избирательную силы души или, напротив, сдерживают их и поворачивают вспять.
33. В те дни римские женщины молили бога по разным храмам, но больше всего их, и притом из числа самых знатных, собралось у алтаря Юпитера Капитолийского. Там была и Валерия, сестра Попликолы, оказавшего римлянам столько важных услуг и на войне и во время мира. Самого Попликолы, как мы об этом рассказали в его жизнеописании, уже не было в живых, а Валерия пользовалась в городе доброй славою и почетом, ибо ничем не запятнала громкое имя своего рода. И вот неожиданно ее охватывает то чувство, о котором я только что говорил, мысленным взором – не без божественного наития – она постигает, что нужно делать, встает сама, велит встать всем остальным и идет к дому Волумнии, матери Марция. Волумния сидела с невесткой, держа на коленях детей Марция. Женщины обступили ее кругом по знаку своей предводительницы, и Валерия заговорила: «Мы пришли к вам, Волумния и Вергилия, как женщины к женщинам, сами, не по решению сената и не по приказу властей, но, видно, бог, внявши нашим молитвам, внушил нам мысль обратиться к вам и просить о том, что принесет спасение нам самим и прочим гражданам, а вас, если вы со мною согласитесь, увенчает славою еще более прекрасной, чем слава сабинянок, которые примирили враждовавших отцов и мужей и склонили их к дружбе. Пойдемте вместе к Марцию, присоединитесь к нашим мольбам и будьте справедливыми, неложными свидетельницами в пользу отечества; ведь оно, терпя множество бедствий, несмотря на весь свой гнев, ни в чем вас не притесняло и даже не думало притеснять, мало того, возвращает вас сыну и мужу, хотя и не ждет от него никакого снисхождения». На слова Валерии остальные женщины откликнулись громкими причитаниями, Волумния же в ответ сказала так: «В равной доле разделяя со всеми общее бедствие, мы вдобавок страдаем от горя, которого не разделяем ни с кем: слава и доблесть Марция для нас потеряны, а вражеское оружие, как мы понимаем, скорее подстерегает его, чем защищает от опасностей. Но самая горькая наша мука – это видеть отечество до такой степени обессилевшим, что в нас полагает оно свои надежды!.. Не знаю, окажет ли он нам хоть сколько-нибудь уважения, если вовсе отказывается уважить отечество, которое всегда ставил выше матери, жены и детей. Тем не менее мы согласны служить вам – ведите нас к нему: если уж ни на что иное, так на то, чтобы испустить последний вздох в мольбах за отечество, мы, во всяком случае, годимся!».
34. Затем она велела подняться Вергилии и детям и вместе с остальными женщинами направилась к лагерю вольсков. Зрелище было столь горестное, что внушило почтение даже врагам и заставило их хранить молчание. Марций в это время разбирал тяжбы, сидя с начальниками на возвышении. Увидев приближающихся женщин, он сначала изумился, а затем узнал мать, которая шла впереди, и хотел было остаться верен своему неумолимому и непреклонному решению, но чувство взяло верх: взволнованный тем, что предстало его взору, он не смог усидеть на месте, дожидаясь, пока они подойдут, и, сбежав вниз, бросился им навстречу. Первой он обнял мать и долго не разжимал объятий, потом жену и детей; он уже не сдерживал ни слез, ни ласк, но как бы дал увлечь себя стремительному потоку.
35. Когда же он вдоволь насытил свое чувство и заметил, что мать хочет говорить, он подозвал поближе вольсков-советников и услышал от Волумнии следующую речь: «Сын мой, если бы даже мы не проронили ни слова, то по нашей одежде и по жалкому нашему виду ты можешь судить, на какую замкнутость обрекло нас твое изгнание. А теперь скажи: разве есть среди всех этих женщин кто-либо несчастнее нас, для которых судьба самое сладостное зрелище обратила самым ужасным, так что мне приходится смотреть, как мой сын, а ей – как ее муж осаждает родной город? Что для других утешение во всех бедствиях и горестях – молитва богам, – то для нас недоступно. Невозможно разом просить у богов и победы для отечества и для тебя – спасения, и потому все проклятия, какие только может призывать на нас враг, в наших устах становятся молитвой. Твоей жене и детям придется потерять либо отечество, либо тебя. А я – я не стану ждать, пока война рассудит, какой из этих двух жребиев мне сужден, но, если не уговорю тебя предпочесть дружбу и согласие борьбе и злым бедствиям и сделаться благодетелем обоих народов, а не губителем одного из них, – знай и будь готов к тому, что ты сможешь вступить в бой с отечеством не прежде, нежели переступишь через труп матери. Да не доживу я до того дня, когда мой сын будет справлять победу над согражданами, или, напротив, отечество – над ним! Если бы я просила тебя спасти родину, истребивши вольсков, тогда, сын мой, ты оказался бы перед тягостными и едва ли разрешимыми сомнениями: разумеется, худо губить сограждан, однако бесчестно и предавать тех, кто тебе доверился; но ведь все, чего мы домогаемся, – это прекращение бедствий войны, одинаково спасительное для обеих сторон и лишь более славное и почетное для вольсков, о которых станут говорить, что, победив, они даровали неприятелю (впрочем, не в меньшей мере стяжали и сами) величайшие из благ – мир и дружбу. Если это свершится, главным виновником всеобщего счастья будешь ты, если же нет – оба народа станут винить тебя одного. Исход войны неясен, но совершенно ясно одно: победив, ты навсегда останешься бичом, язвою отечества, потерпишь поражение – и о тебе скажут, что, отдавшись во власть своему гневу, ты навлек на друзей и благодетелей величайшие бедствия».