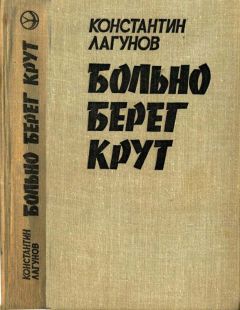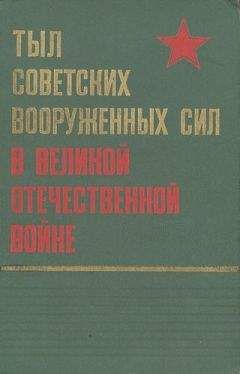Константин Лагунов - Так было
Когда до ее отъезда осталось всего два дня, пришла телеграмма с вызовом на пленум обкома комсомола. Степан побежал к Зое.
— Я поеду с вами до города. А там… В общем, до города едем вместе, — прокричал он от порога.
От Малышенки до областного центра поезд идет семь часов. Четыреста двадцать минут. А в вагоне такая теснота, что негде даже присесть. И коридор, и тамбур, и подножки, и даже крыши — все забито людьми.
До поздней ночи, не умолкая, гудели возбужденные, радостные голоса возвращающихся домой. Люди вспоминали дни эвакуации, гадали, как их встретит родной, разоренный врагами край. Но вот постепенно затих дорожный шум. Взрослые и дети уснули где попало. Заснула, сидя на узлах, и Зоина мама. Отчетливо стал слышен торопливый перестук колес, паровозное пыхтение и гудки, храп и стоны усталых людей. В вагоне колыхался густой полумрак: два купе освещались одной свечой.
С большим трудом Степану удалось освободить верхнюю багажную полку. Они вскарабкались туда. Мимо вагона плыли заснеженные леса и поля, станции и полустанки…
Тараторили колеса, гудел паровоз, сонно бормотали пассажиры, плакал ребенок, его уговаривала и баюкала женщина.
А они шептались:
— Если ты разлюбишь меня…
— Зайка!
— Не перебивай. Если ты разлюбишь и найдешь другую, ничего не рассказывай ей обо мне. Я не хочу, чтобы она знала. Не хочу! Обещай.
— Заинька. Не мучь меня. Ты же знаешь… Кончится война, и я приеду. Поступлю в университет. Мы будем вместе. Всегда вместе. А когда состаримся и у нас будут внуки, станем вспоминать нашу Малышенку. А помнишь, Зайка, скажу я, как нагнал тебя по дороге. Ты шла босиком под дождем и плакала.
— Не надо, Степа, а то я снова заплачу.
Пыхтит, тужится маломощный паровозик. За окном — окропленная искрами ночь. Бегут минуты. Одна за другой.
— А помнишь, Зайка, как ты уснула у меня на коленях? Я сижу, боюсь шелохнуться. Руки онемели, сами разжимаются, а я сижу…
— Помню. Все-все. До самой малюсенькой мелочи.
…Грохочут на стрелках вагонные колеса. За окном начинает светлеть. До станции расставания остался один-перегон. Они стояли в уголке тамбура и говорили что-то отрывочное и бессвязное. Иногда на Степана находило как бы просветление: «Что я говорю? Разве об этом нужно говорить сейчас? Надо сказать самое главное. Надо условиться, обо всем договориться».
— Зоя.
— Что, Степа?
— Заинька…
— Молчи, Степа. Смотри на меня и молчи.
— Ах, Зоя…
Стоянка поезда — двадцать минут. Они ходили по перрону и, перебивая один другого, опять говорили.
Пробил звонок… Последний поцелуй. И оба не верят, что это последний. Они еще на что-то надеются… Может быть, на чудо?
Степан подсадил Зою на подножку. Еще несколько секунд видел ее лицо. Всего несколько секунд. А потом замелькали вагоны. Все быстрее и быстрее. И вот с треском пролетел последний.
Мелькнул красный флажок проводника. Пусто на путях, пусто на перроне, пусто в душе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
В составе делегации трудящихся Сибири Рыбаков выехал в Действующую армию.
Перед отъездом он побывал в колхозе «Коммунизм». Приехал туда к вечеру. В правлении застал только счетовода.
— Где председательша?
— Дома. Она почти не бывает здесь. И документы носим домой подписывать, и заседания правления там проводим.
— Заболела?
— Известно. Последние дни дохаживает. Наследника ждет…
— Пока, — буркнул Рыбаков и вышел из конторы.
Через несколько минут Василий Иванович перешагнул знакомый порог. Настасья Федоровна встретила его у дверей.
— Ой, батюшки! Радость-то какая. — А у самой задрожали губы.
— Что ты, Настенька? — забеспокоился он.
— Так просто. Слышала: уезжаешь ты. Думала, не заедешь. А мне ведь уже скоро… Бог знает, как оно пройдет. Не двадцать лет. Хотелось повидаться с тобой, проститься.
— Ну, полно, полно. — Он поцеловал ее в висок.
Настасья Федоровна устало улыбнулась. Осторожно провела пальцами по его насупленным бровям. От этого прикосновения лицо Рыбакова просветлело, разгладились морщины на лбу.
— Да что мы стоим у порога? Скидывай полушубок.
Василий Иванович разделся. Следом за ней прошел в горницу. Настасья Федоровна зажгла лампу. Он пристально вгляделся в нее. Лицо подурнело, покрылось пятнами. И вся она была какая-то мягкая, расплывшаяся. Ходила медленно, вразвалку, поддерживая рукой живот. Говорила тоже медленно, как бы нехотя. Большие глаза светились умиротворенностью и счастьем, а от грузной фигуры веяло доброй силой и спокойствием.
— Ишь, какая ты стала.
— Какая? Некрасивая, да?
— Да нет, Настя. Я не о том. Просто изменилась ты очень. От прежней мало что осталось. Даже взгляд не тот. Вроде бы в себя смотришь.
— Ничего, родной. Скоро я опять стану прежней. Теперь уже недолго. Рожу сынка… Только бы все благополучно…
— Так оно и будет. А как же иначе? — Свернул папиросу, прикурил. Разогнал ладонью сизое облако едкого махорочного дыма.
— Ох, Вася. Что это я? Сижу, слушаю тебя, а на столе пусто.
— Да ты сиди, не хлопочи. Ничего мне не надо. Сыт я. Сиди, сиди.
— Нет-нет. Как же можно? Выпей хоть чайку.
— Да не хочу я, Настенька. Ей-богу, не хочу. Садись-ка ты. — Он взял ее за руку. Усадил. — Вот так. Посидим, поглядим друг на друга и до свиданья. Чего ты вздрогнула? Холодно?
— Боязно мне. Уедешь ты, а я одна. Вдруг беда какая.
— И что ты выдумываешь? Понапрасну себя расстраиваешь. Все будет хорошо. Ты же сильная. Выше голову, Настя. Ну? А теперь улыбнись. Вот так.
— Я все понимаю. Сроду к гадалкам не хаживала. Ни в какие предчувствия не верила. А тут… Боюсь. Днем-то с людьми, бодрюсь. А ночью сама с собой останусь — и так жутко мне. Не за себя боюсь. За него. Ну, как что случится? Скорей бы уж. А засну — и сразу увижу его. Красивый мальчонка, чернявый. Я все ношу его на руках, баюкаю. Такая радость — просыпаться не хочется…
— Бабы не клюют тебя?
— Нет. Поначалу-то все выпытывали. От кого, мол. Я сказала, кого люблю — от того и ребенок. Ну, они и отцепились. Знают мой характер. Да и, по-моему, они догадываются. В деревне все друг у друга на виду.
— Пускай догадываются. Можешь им прямо сказать, чей сын. Я прятаться не собираюсь. Надо было давно открыться. Смалодушничал я.
— Полно наговаривать-то на себя.
— Не тревожься, Настенька. И ни о чем не думай. Все будет хорошо.
— Да я и не думаю об этом. Мне бы вот только сынка родить. Да чтобы был на тебя похожий. А остальное приложится.
— Не приложится — сами приложим. Эх, Настя, Настя. Мы же не старики. Все впереди, все будет.