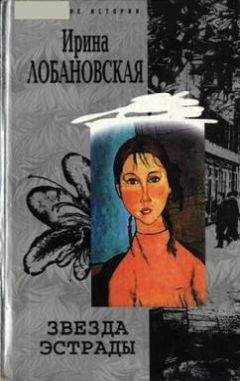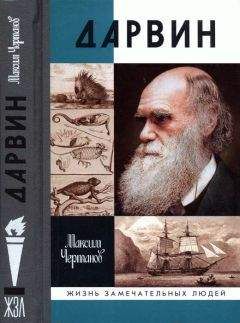Максим Чертанов - Диккенс
Брэдли шел в Лондон в оковах своей ненависти и жажды мести и придумывал, как бы он мог утолить и то и другое — утолить лучше, чем это у него получилось. Орудие можно было найти более верное, место и час — более подходящие. Нанести человеку удар сзади, в темноте, на берегу реки — не так уж плохо, но следовало сразу лишить его возможности сопротивляться, а он повернулся и сам кинулся на своего противника. И вот, чтобы поскорее прекратить борьбу и покончить с этим, пока кто-нибудь не подоспел на помощь, пришлось второпях столкнуть его, еще живого, в реку. Случись все заново, он сделал бы по-другому. Скажем, окунул бы его с головой в воду и подержал там подольше. Скажем, нанес бы первый удар так, чтобы наверняка убить. Скажем, выстрелил бы в него. Скажем, удушил бы. Скажем, так, скажем, этак. Скажем как угодно, лишь бы избавиться от этих неотступных мыслей, потому что они ни к чему не приведут.
Учение в школе началось на следующий день. Школьники не заметили никакой или почти никакой перемены в учителе, так как выражение лица у него всегда было сосредоточенно хмурое. А он весь урок делал и переделывал свое черное дело. Стоя перед доской с куском мела в руке, он вспоминал то место и думал: если бы выше или ниже по реке, может, там глубже и берег круче? Ему хотелось нарисовать это мелом на доске. Он проделывал все сызнова, каждый раз стараясь сделать лучше, и за молитвой, и за устным счетом, и за опросом учеников — весь день, с первого до последнего урока».
Правдоподобие и сила воображения невероятные — некоторые даже думают, что у Диккенса имелся соперник и он сам обдумывал убийство (разумеется, не собираясь осуществлять это на практике). В конце концов Брэдли, терзаемый шантажистом, погибает вместе с ним, а хорошие люди женятся — вот тут, как считают литературоведы, Диккенс совершил ужасный просчет, сведший на нет весь «антиденежный» пафос романа. Одна из героинь, бедная девушка, выходит замуж за преуспевающего адвоката, а Джон Гармон женится на полюбившей его Белле, делая вид, что он беден, и заставляя ее стряпать и прибираться, — а потом, убедившись, что перевоспитал жену, открывает ей, что они богаты, и они преспокойно живут дальше, пользуясь деньгами мусорщика (добрых Боффинов, впрочем, тоже не обидели, но несколько «поставили на место»). Хорошо, когда у хороших людей есть деньги, откуда бы они ни взялись, — с этим не поспоришь, но для морали как-то даже и пошловато.
Публику роман утомил, и к последним выпускам тиражи снизились до 19 тысяч экземпляров — неслыханное унижение для Диккенса. Он получил, как причиталось по договору, около 12 тысяч фунтов, но Чепмен и Холл понесли значительные убытки. Не понравилось и критикам. Генри Джеймс дал уничтожающую оценку в «Нейшн»: «наихудшая из работ м-ра Диккенса», Джордж Стотт в «Контемпорари ревью» писал: «…сентиментальный пафос сей книги неестествен и неприятен»; оскорбленный и разочарованный автор нашел, что во всех отношениях лучше выступать с чтениями, чем писать романы, и поделился этой мыслью с Форстером. Правда, критик Энеас Свитленд из «Таймс» (обычно ругавшей Диккенса) похвалил: «Во всех этих 600 страницах нет ни одной лишней строки». На наш взгляд, как раз «лишние строки» и портят этот тонкий и умный, если не считать дурацкого финала, роман — он вышел очень перегруженным, и начинать с него ни в коем случае нельзя — поставим его в конец первого десятка.
Осенью трое из оставшихся в живых сыновей Диккенса были далеко: Фрэнсис в Индии, Альфред в Австралии, Сидней на корабле. Чарли жил в Лондоне, пытаясь управлять (совместно с шурином) фирмой по торговле бумагой — с невеликим успехом. Дома оставались Генри и Плорн. Диккенс считал, что шестнадцатилетний Генри, учившийся в тот период в частной школе в Уимблдоне, должен бросить ее и последовать за Фрэнсисом в Индию, правда, стать там не полицейским, а государственным чиновником, но тот вновь проявил упорство и в сентябре заявил отцу, что ни малейшего желания становиться чиновником в Индии он не имеет, а хочет учиться в Кембридже на адвоката. Диккенс, надо отдать ему должное, задумывался, когда видел, что кто-то из его сыновей действительно сильно чего-то хочет. Он написал директору школы, что может послать сына в университет лишь в том случае, если директор скажет, что у того достаточно способностей; директор отвечал утвердительно, и Генри оставили в школе еще на три года, чтобы он мог подготовиться к поступлению в Кембридж.
Отец его, как и прежде, был увлечен международными делами, потихоньку, как это и бывает с возрастом, «правел», писал де Сэржа (30 ноября): «Если американцы в скором времени не втянут нас в войну, то это будет не по их вине. Их чванство и бахвальство, их притязания на компенсацию, Ирландия и фении, Канада — все это внушает мне мрачные предчувствия. Несмотря на утвердившуюся неприязнь к французскому узурпатору, я считаю, что его всегдашнее стремление вызвать раскол в Штатах было разумно, а что мы всегда поступали неразумно и несправедливо, норовя поступать по принципу „отдать хотел бы под надзор, не смею“».
На Ямайке, губернатором которой был англичанин Э. Эйр, восстали африканцы, захватили столицу, убив и ранив несколько десятков человек, в основном белых. Эйр подавил восстание, 400 мятежников были казнены без суда, сотни подвергнуты телесным наказаниям. В числе убитых солдатами Эйра был и белый британец Д. Гордон, это вызвало скандал, и Эйра арестовали за его убийство. Экономист Джон Стюарт Милль организовал Комитет Ямайки, куда вошли либеральные ученые — Дарвин, Хаксли, Уоллес, Лайель, Тиндаль, Спенсер: они ратовали за осуждение Эйра. Правительство отправило на Ямайку комиссию, та оправдала Эйра, но скандал продолжался, Карлейль организовал комитет в защиту Эйра, в нем оказались гуманитарии: Диккенс, Раскин, Теннисон. Из цитированного выше письма к де Сэржа: «Восстание на Ямайке тоже весьма многообещающая штука. Это возведенное в принцип сочувствие чернокожему — или туземцу, или самому дьяволу в дальних странах — и это возведенное в принцип равнодушие к нашим собственным соотечественникам в их бедственном положении среди кровопролития и жестокости приводит меня в ярость. Не далее как на днях в Манчестере состоялся митинг ослов, которые осудили губернатора Ямайки за то, как он подавлял восстание!» Ослами, стало быть, был весь цвет британской науки. Любопытно: во время Первой мировой войны Эйнштейн отмечал, что естественники и технари стоят за мир и добро, тогда как гуманитарии проявляют дикую кровожадность.
Северяне победили, рабству в Америке пришел конец — Диккенс злился, «сочувствие чернокожему» уже раздражало его, и он опять убеждал себя и друзей, что северяне на самом деле ненавидят негров, а южане так очень даже неплохо с ними обращались: он, видно, давно (или никогда) не перечитывал свои «Американские заметки». Тем не менее он стал подумывать о том, чтобы принять одно из многочисленных приглашений выступать с чтениями в Америке. Начинать новый роман он не хотел, в деньгах нуждался (он ведь содержал кучу всякой родни, включая брошенную семью своего брата Огастеса, да и сам привык жить широко — одна только светская жизнь Мэйми чего стоила), но сразу согласиться не мог: доктора сказали, что с такой больной ногой ехать нельзя. Современные медики считают, что у него была подагра, многие и тогда говорили ему это, но он не соглашался и лечиться соответствующим образом отказывался — «само пройдет». Генри вспоминал, что в тот период у отца бывали «тяжелые капризы» и депрессия, заключавшаяся в «смене периодов интенсивной раздражительности и тихой угнетенности». И мы по-прежнему ничего не знаем, как у него обстояли дела с Эллен, — разлюбила ли, любила ли когда-нибудь, охотно ли принимала его или ценила только деньги и подарки?