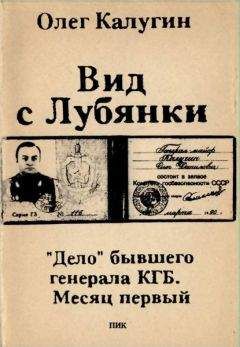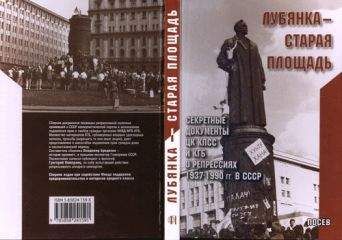Олег Калугин - Прощай, Лубянка!
Еще в июле я направил иск в Московский городской суд с жалобой на неправильные действия Президента, председателя правительства и шефа КГБ. Истина, казалось бы, лежала на поверхности: наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления; никто не может быть признан виновным и подвергнут наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом; к лицу, совершившему тяжкое преступление, суд вправе применить как дополнительную меру наказания — лишение воинского звания. В отношении меня приговора о виновности в чем бы то ни было не выносилось, а следовательно, лишение звания постановлением Совета Министров СССР незаконно.
Тем не менее очевидное нарушение закона еще требовалось доказать в суде. Предстояли изнурительные разбирательства, смысл которых я усматривал не столько в возвращении мне отнятого, сколько в испытании нашей юстиции, ее способности быть независимой от давления сверху, готовности участвовать на деле в создании правового государства.
Предстояла еще и тяжелая, неравная борьба с ощетинившейся, озлобленной, раненой, но по-прежнему сильной и опасной системой, изуродовавшей мою Родину, искалечившей народ и его душу.
После XХVIII съезда КПСС я вышел из партии, в которой состоял 33 года, но я не чувствовал себя одиноко. У меня было с кого брать пример. Я вспоминал слова Теодора Рузвельта о человеке-борце, «лицо которого покрыто пылью, потом и кровью, который мужественно сражается, ошибается и вновь терпит неудачу — ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает, который по-настоящему стремится к свершениям, который познал истинное воодушевление, великую преданность идее, который отдает свои силы достойному делу, который в конечном счете лучше всех знает, что такое торжество великих свершений, и который в худшем случае, если он терпит неудачу, по крайней мере терпит ее, дерзая на великое». В нашей стране таких людей — отважных, готовых и в тюрьму, и на плаху — с каждым днем становится все больше. С ними я пойду до конца.
В сентябре 1990 года я получил полагающийся депутату дипломатический паспорт и выехал на несколько дней в Голландию для участия в конференции, посвященной проблемам перестройки. Это была моя первая за десять лет поездка за границу. Барьеры, расставленные на моем пути, рухнули.
Я шел вдоль каналов Амстердама, вдыхая полной грудью свежий морской ветер, как будто заново родившийся, сбросивший проклятую чешую обмана и двуличия, вольный, сам выбравший свою судьбу. Бог видит, я не искал славы и не амбиции руководили мной. Я просто осознал себя человеком, рожденным жить свободно и достойно.
«…В большой дороге и заключается идея, а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи… Vive la grande Route! А там, что Бог подаст».
Вместо послесловия
Эти дни вспоминаются, как сон, кошмарное сновидение, вихрем пронесшееся через сознание и оставившее рубец на всю жизнь. Только потом, когда улеглись страсти и мозг заработал в привычном ритме, я понял, как все мы были близки к катастрофе, как и моя судьба могла надломиться и пойти по совсем иному руслу…
Накануне же все казалось привычно спокойным, и, хотя в воздухе витало предчувствие грозы, оно никак не предвещало драматического утра 19 августа 1991 года. За два дня до этого я вернулся из Мюнхена, где встречался с коллективом радио «Свобода». Впервые я попал в логово того самого зверя, которого моя бывшая организация травила в течение десятилетий. Удивительное это чувство — встретиться лицом к лицу с теми, кому годами навешивали ярлыки шпионов и идеологических диверсантов, кого я знал заочно по донесениям внедренной в «Свободу» агентуры, о ком сочиняли пасквили и фабриковали документы. Я входил в здание радиостанции в смятении, готовый если не к враждебному, то по меньшей мере холодному приему, ехидным репликам, насмешкам. Я не собирался оправдываться и тем более просить прощения. Я просто хотел рассказать о том, как все было, как велась война, бескровная, но жестокая и непримиримая с нашим заклятым врагом — антисоветским зарубежьем, чего мы достигли в этой войне и на какие рубежи вышли в ходе горбачевской перестройки.
Странно, но люди, которых я увидел в зале, были настроены не зло, некоторые даже улыбались. Обстановка напоминала скорее встречу давних знакомых, разделенных временем и расстоянием. Невидимого барьера, пропитанного душной ненавистью и недоверием, как будто никогда не существовало.
По ходу своего выступления я несколько раз мысленно представлял себе, как взревет аудитория, если я расскажу о проводившейся при мне подготовке взрыва радиостанции.
С самого начала эта акция была задумана как шумное пропагандистское мероприятие, имевшее целью напугать немецкого обывателя, проживающего в округе, побудить его обратиться к властям с требованием убрать радиостанцию с германской территории. Имелось в виду попугать и самих сотрудников «Свободы». При этом предусматривалось, что взрыв будет осуществлен в ранние утренние часы — так, чтобы не причинить вреда случайным прохожим. О том, что операция наконец проведена, я узнал уже будучи в Ленинграде. О жертвах или каких-либо повреждениях не сообщалось. Очевидно, все прошло в соответствии с планом.
Не знаю, что думала аудитория, слушая мой рассказ, но я почувствовал себя особенно гадко, когда кто-то из зала бросил реплику: «А глаз одному человеку все же повредили. До сих пор лечится». И все же я закончил свое выступление под аплодисменты.
Долго пришлось потом размышлять: отчего такое всепрощенчество, почему не улюлюкали, не свистели? Примерно так же меня встречали в США, где я побывал осенью 1990 года, впервые после двадцатилетнего перерыва. Только ли интеллигентность сдерживала их, некий кодекс вежливости по отношению к гостю? Мне кажется, их снисходительность и даже радушие коренились в природной расположенности людей к тем, кто способен признать свои заблуждения и ошибки, покаяться без самобичевания, но с достоинством, не ожидая при этом ни слов прощения, ни тем более похвал.
У сотрудников «Свободы» были, по-видимому, еще и свои причины: они знали не понаслышке, что такое коммунистическая власть, многие из них, наверное, тоже когда-то верили в царство равенства и свободы, обещанное вождями мирового пролетариата, познали и горечь разочарования, и жестокость преследований, и унижение. «Познай, где свет, поймешь, где тьма», — говорил А. Блок. Они познали раньше меня и сделали свой выбор. Для них я был еще один запоздавший путник с далекой и близкой им земли…
Утром 19-го, в начале седьмого, меня разбудил телефонный звонок. «Олег Данилович, включите радио, в стране переворот», — взволнованно сказала в трубку помощница депутата Сергея Белозерцева. По радио передавали обращение ГКЧП к советскому народу. Я прослушал его до конца, потом включил телевизор: на экране замелькали белые пачки балетных лебедей.