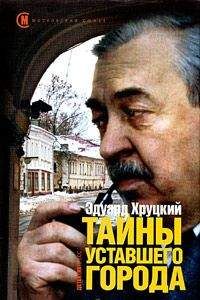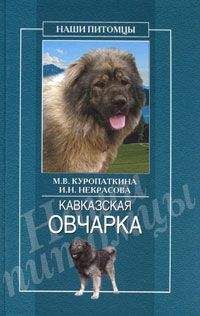Эдуард Хруцкий - Тайны уставшего города (сборник)
Это был тот самый корреспондент «Нью-Йорк таймс» Андерсон.
На заседание трибунала войск МГБ их привезли втроем: Володю Ускова, Володю Шорина и его. Заседание было предельно коротким.
За подготовку террористического акта против товарищей Маленкова и Кагановича, за создание антисоветской организации, ставящей целью подрыв советской власти, им дали три статьи УК – 58–10, 58-4, 58-8 через семнадцатую статью УК.
Общий срок – двадцать пять лет исправительно-трудовых лагерей и пять лет «по рогам», то есть лишения избирательных прав.
Все трое получили одинаково, несмотря на то что Володя Шорин, по кличке Барон, смог вынести и бессонницу, и побои и ничего не подписал.
Позже, когда они вернулись, Усков тщательно скрывал, что сидел как враг народа, он говорил, что отбывал срок за грабеж с мокрухой.
И Володька Шорин, заядлый охотник и рыболов, сказал мне просто:
– Знаешь, Эдик, ненавидел я их сильно, поэтому не боялся. Не сломили они меня.
В день приговора Виталий смотрел на трех солидных полковников в глаженых мундирах и не мог понять: неужели эти умудренные жизнью, пожилые мужики всерьез воспринимают происходящее, губят жизнь трем двадцатилетним мальчишкам. Ему, студенту экономического института, театральному осветителю Володе Шорину и неработающему Ускову.
Оказывается, делали они это вполне серьезно.
А дальше – два месяца в общей камере внутренней тюрьмы, потом этап, почему-то Владимирская спецтюрьма на одни сутки. И снова этап.
В вагонной камере всего трое, несмотря на то что остальные камеры забиты под завязку.
Террористов и убийц возили отдельно.
Потом знаменитый Степлаг. И каторжный номер на спину и на грудь – СЖЖ-902.
Там Виталий встретил ребят, исчезнувших с Бродвея: Юру Киршона, сына знаменитого драматурга, и Алика Якулова, первого лауреата конкурса молодых скрипачей в Праге.
Они тоже были очень опасны режиму. Студент Литинститута и выпускник консерватории.
Всякое было в лагере. И ужасное и хорошее. Человек приспосабливается ко всему. Работа, БУР (барак усиленного режима), редкие письма и передачи.
Я не буду повторяться, о лагерной жизни писали много.
– Знаешь, как я узнал, что наступили перемены? – спросил Виталий меня.
– Конечно нет.
– Я увидел, как майор, начальник оперчасти лагеря, выносит из кабинета вверх ногами портрет Берии. Вот тогда я понял, что начались перемены.
В апреле 1955 года, Гармаш тогда находился в Лефортовской тюрьме, его вызвали и сказали:
– Ваше дело пересмотрено, вы свободны.
Он вышел в московский апрель, в солнце, в бушевание капели в лагерном комбинезоне со споротыми номерами.
Жизнь развела нас, и мы не встретились раньше. И вот мы сидим в баре Дома кино, и Виталий рассказывает мне свою длинную печальную историю.
Седой человек, в очках с толстыми стеклами, один из крупнейших наших специалистов-статистиков, а я все равно вижу стоящего у ресторана «Киев» молодого веселого московского парня. Жизнь не сломила его, человек все равно сильнее обстоятельств, хотя обстоятельства эти не всегда добры к нему.
Кровавая оттепель
На бывшей Пушкинской, а ныне Большой Дмитровке, из здания Совета Федерации густо повалили новые российские сенаторы, похожие на банщиков, вышедших прогуляться в выходной день.
Охрана оттесняла прохожих с тротуара, опасаясь за бесценную жизнь областных паханов.
Я подождал, когда власть влезет в свои иномарки, и пошел в сторону улицы Москвина, то бишь Петровского переулка, свернул в него и увидел настежь распахнутую дверь подъезда, в котором прожил пятнадцать лет, за вычетом достаточно долгой военной службы и работы на Севере и целине.
Я вообще-то не склонен к посещению старых пепелищ. Прошло и кануло. Осталось в памяти собранием смешных и грустных историй. Но все же зашел в подъезд и удивился, увидев, как реставраторы отмыли стены, закрашенные, как я помню, казарменной зеленой краской, и появились на ней рисованые медальоны с виноградом, чашами и еще чем-то неразборчивым.
Ремонт в подъезде шел по первому банному разряду, видимо, дом готовили под заселение для новых хозяев жизни.
На дверях нашей коммуналки еще оставалась цифра 20, а под ней каким-то чудом сохранился частично список жильцов.
«…цкий – 3 звонка» – все, что осталось от меня на этой двери.
Я толкнул ее, и она поддалась со знакомым мерзким скрипом. В длинном коридоре два здоровенных мужика волокли какие-то мешки в сторону бывшей кухни.
Из дверей комнаты, где когда-то проживал главный хранитель Музея искусств Андрей Александрович Губер, вышел персонаж с повадками бригадира и спросил меня просто и незатейливо:
– Тебе чего, мужик?
– Понимаешь, жил я здесь раньше.
– Понял, – обрадовался бригадир, – решил зайти попрощаться.
– Вроде того.
– А где твоя комната?
– Вот она, – показал я на дверь.
– Иди, мужик, посмотри, мы там еще ничего не трогали.
Пустая комната показалась мне большой и незнакомой.
Два окна, выходящие на север, ниша, где когда-то стоял платяной шкаф, куча мусора в углу. Вот и все, что осталось от моей прежней жизни.
Я поселился в этой комнате, когда мне было восемнадцать, и ушел из нее в тридцать три, ни минуты не сожалея об этом.
Но все-таки жили в ней воспоминания, голоса ушедших друзей, лица веселых подруг. Здесь, вернувшись из командировки, писал я свои незатейливые очерки, здесь сочинил первый киносценарий и первую книгу.
У этого подъезда зимой 1957-го я вылез из такси, поднялся по ступенькам и открыл своим ключом дверь. Все как в фильме «Жди меня», имевшем огромный успех у военной молодежи.
Я повесил шинель на вешалку у двери и затащил в комнату два здоровых чемодана, которые у нас назывались «Великая Германия». На достаточно крупную сумму восточных марок, выданных мне при увольнении, я прилично прибарахлился.
Я доставал пиджаки и брюки и вешал их в шкаф, когда в дверь моей комнаты постучали и вошел сосед, слесарь Сашка.
– Ты приехал? – спросил он.
– Как видишь.
– В отпуск или совсем?
– Вроде совсем.
– Значит, в народное хозяйство, – щегольнул он эрудицией.
– Именно.
– Тогда отдай мне шинель.
– А зачем она тебе?
– Я из нее куртку сделаю, а то не в чем на работу ходить.
– Бери.
– А кителек тебе тоже не нужен?
– Нужен.
– Ну ладно, – милостиво согласился он, – я пока шинель возьму.
Я отстегнул погоны, бросил их в шкаф и отдал соседу шинель.
Пока я разбирался с вещами и собирался отправиться на кухню за горячей водой для бритья, именно на кухню, так как в ванной комнате проживала семья из четырех человек местного слесаря-сантехника, ко мне в комнату ворвалась разгневанная мать слесаря Саши. И, словно видела меня только вчера вечером, заверещала: