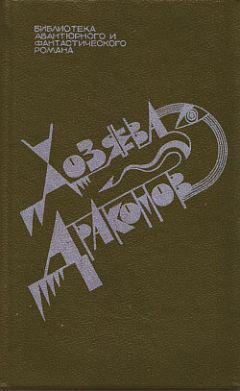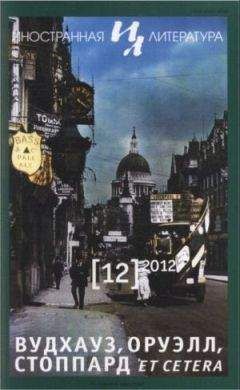Александр Генис - Довлатов и окрестности
Если в жизни случайно все, то в литературе – ничего. Писатель, делая деталь художественной, дарует ей бессмертие. История невыносима для человека из-за обилия лишних подробностей. В литературе же лишнего не бывает. Борхес об этом то и дело напоминает читателю, бравируя случайными деталями, которые, попав в книгу, становятся необходимыми, даже неизбежными. Вот, например, как это выглядит в лекции о буддизме: “Он заточает своего сына во дворце, дарит ему гарем; число женщин я не назову, поскольку оно обусловлено тягой к преувеличению, столь свойственному индусам. Впрочем, отчего же не назвать: их было восемьдесят четыре тысячи”.
По Борхесу, в тексте не бывает пустяков, потому что каждый из них становится камнем в кладке, без которого на странице останется дыра, уже сама по себе требующая пояснения.
Сходным образом Набоков, рассуждая о внезапных пробелах в повествовании Гоголя, предположил, что на эти места текста пришлись прорехи в ткани самого бытия.
Борхес решительно предпочитал чтение жизни не оттого, что надеялся докопаться до смысла – библиотека ведь беспредельна, – а потому, что был уверен, что в библиотеке этот смысл есть.
Опыт такого чтения Борхес перенял у каббалистов, которые, пишет он, “превращают Писание в совершенный текст, где роль случая сведена к нулю… Книга, где нет ничего случайного, – механизм с беспредельными возможностями”. Собственно, такой книгой может стать любая, если ей присвоить соответствующий статус. На это намекает Борхес, поражаясь Библии: “Редкостная идея – придать священный характер лучшим произведениям одной из литератур”.
По Борхесу, книга адекватна миру, но это вовсе не тот мир, в котором мы живем. Литературная вселенная Борхеса – это модель принципиально нечеловеческого мира. И это значит, что Борхес, говоривший, что “всякий культурный человек – теолог”, перебрался на чужую территорию. Однако, вместо того чтобы обращать литературу в богословие, он трактовал теологию как литературу.
Борхес считал теологию самой важной – фантастической – разновидностью изящной словесности, которая занята, возможно, единственно существенным для людей вообще и писателей в частности делом – конструированием Другого. Все чудесное, сверхъестественное, мистическое, наконец божественное для Борхеса – дерзкая и величественная попытка человека представить, вообразить, вымыслить или даже “выяснить” другое, чуждое нам сознание и вступить с ним в диалог.
Павич: последний византиец
Когда Павич умер, в “Нью-Йорк таймс” вышел некролог, где его сравнили с Сервантесом, Стерном и Борхесом. Однако мне его сочинения напоминают не другие книги, а любимые города. Он сам об этом писал: “Дома больше всего похожи на книги: столько их вокруг, а лишь в некоторые из них заглянешь, и еще меньше тех, куда зайдешь в гости или остановишься в них надолго”.
Город Павича из тех, неисчерпаемых, куда всегда хочется вернуться. Но не только этим он похож на Венецию. Ведь она тоже – игра, ребус, кроссворд, заставляющий мастера вписывать дворцы в строчки каналов. Живя по соседству, Павич перенял опыт адриатического чуда. В поисках освобождения от сношенных литературой форм он взял на себя повышенные обязательства – в интересах свободы заключил себя в каземат.
В сущности, Павич работал с литературой второго уровня, со словесностью, уже успевшей отказаться от завоеванной свободы и добровольно подставившей шею под новое ярмо. “Все книги на земле имеют эту потаенную страсть – не поддаваться чтению”, – проговаривается Павич в конце романа-кроссворда “Пейзаж, нарисованный чаем”. Чтобы затормозить читателя и сломать автоматизм чтения, Павич в каждую книгу вставил разрушительный механизм, мешающий выстроить текст в линейное повествование.
В стандартном романе есть история, хотя бы ее контуры, которые автор наносит беглыми чертами, а затем заполняет объемы красками в меру изобретательности и таланта. У Павича сюжет – как музыка: его надо переживать каждую минуту чтения. Стоит только на мгновение отвлечься, и мы неизбежно заблудимся в хоромах этой дремучей прозы. Таким образом личное время читателя включено во время романа. Читатель – как актер, который и играет, и проживает положенные ролью часы на сцене, старея ровно на столько, сколько длится спектакль.
Говоря о своих книгах, Павич предпочитал архитектурные сравнения: роман как церковь или мечеть. Его книги можно обойти с разных сторон, чтобы бегло осмотреть, а можно сосредоточиться на какой-нибудь детали – портале, орнаменте, химере, каменной резьбе. Избыточное содержание тут так велико, что у нас не хватает пространственного воображения. Тут-то автор и приходит на помощь, предлагая читателю кристаллическую решетку в виде лексикона, кроссворда или какой-нибудь другой семантически пустой формы.
Для писателя соблазн этих структур в том, что они позволяют вогнать материал в жесткие рамки, не прибегая к линейному повествованию. Ведь композицию здесь задает не писатель, а чужая – и чуждая литературе – форма. И чем она строже, тем больше свободы у автора и его героев. Он строго соблюдает не им придуманное правило – следит, чтобы герои в нужных местах пересекались. Зато в остальном он свободен – повествовательная логика, сюжетная необходимость, законы развития характера, психологическая достоверность, даже элементарная временная последовательность “раньше – позже” – всего этого у Павича нет. Он решительно избавился от презумпции реализма, которая создает из книги иллюзию мирового порядка и навязывает автору изрядно скомпрометированную роль всемогущего творца.
2Новаторство Павича подчеркивает неожиданная связь с мыльной оперой: бесконечно запутан клубок родственников, людское тесто автор месил прямо-таки со злорадным азартом. Семейная “клетка” разбухает – герои плодятся, раздваиваются, повторяются, отражаются, превращая текст в генетическую шараду. От этого генеалогического баньяна непросто добиться ответа на простые вопросы: кто кого родил, любил, убил.
Созданная Павичем литературная форма требует организации текста иной сложности. Временны´
е координаты тут наделяются пространственными характеристиками: персонажи могут жить во вторнике или в пятнице – не когда, а где. Павич ищет ответа – истины, порядка, гармонии, Бога – не в пространстве, а во времени, не на небе, земле или в преисподней, а в истории, спрессовавшей вчерашний, сегодняшний и завтрашний день.
Он и сам был таким. Когда “Хазарский словарь” обошел и покорил мир, Павича назвали первым писателем третьего тысячелетия. Но куда сильнее его проза тянулась к архаике – к рапсодам, аэдам, Гомеру, к той литературе, которая была до книг, а значит, сможет выжить и в постгуттенберговском мире, когда – или если – книг снова не будет.