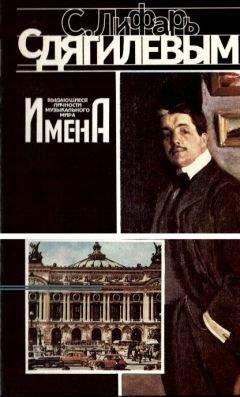Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович
Скоро на мою долю выпало большое счастье, отравленное горечью.
Как-то в середине февраля в Париже мы сидели втроем – Сергей Павлович, В. Ф. Нувель и я – и составляли программу спектаклей весеннего сезона в Париже.
– У нас есть два балета-créations [342] – «Бал» и «Блудный сын», а мне необходим для сезона третий балет. Я не хочу больше ничего давать Баланчину, да и вообще он у нас последние дни, и я скоро с ним расстанусь… Что же делать?
Пауза – холодная пауза. После паузы Сергей Павлович продолжает, обращаясь ко мне:
– В конце концов, Сережа, ты мог бы поставить балет, ведь я раньше на тебя рассчитывал как на хореографа.
«Раньше рассчитывал», а потом перестал рассчитывать, забыл о моей «хореографической» мечте? Слова Сергея Павловича меня задели – «раньше», – впрочем, не столько даже слова, сколько тон – холодный, безразличный, как будто речь идет о маловажном для меня и для него, а не о самом важном для меня, о том, чем я пламенел все последние четыре года после первых робких творческих попыток в «Зефире и Флоре».
Дягилев продолжает медленно, лениво перелистывать свою тетрадь со списками балетов, ищет какой-нибудь подходящий балет для возобновления.
– A voilà… «Renard» de Stravinski [343]. Можно взять «Renard’a»… Что же, Лифарь, вы будете делать балет или нет? Хотите попробовать?
Меня всего переворачивает от такого тона и от такого подхода к моему самому заветному, к моей напряженнейшей мечте о творчестве. Стараясь сдержать свое волнение, не выдать себя, я подделываюсь под тон Дягилева и отвечаю таким же безразлично-беспечным тоном, как будто бы речь идет о каких-то пустяках для меня:
– Ну что же, могу попробовать, если вам этого хочется, если вас это интересует.
И мы идем завтракать в ресторан.
Так я стал «хореографом»; к этому шагу моей жизни подошли без любви, без торжественности, без трепета дружбы, а ведь Дягилев любил обставлять торжественностью, обрядом все события, все жизненные вехи и вкладывать столько сердца, столько себя в эту торжественность. Не так он говорил о моем хореографическом будущем в 1924 году, когда с таким жаром уверял Нижинскую, что из меня выйдет большой танцор и большой хореограф, когда убеждал меня учиться в Италии и впитывать в себя художественные впечатления, дышать воздухом искусства – и старого, и современного, собирать и копить художественный материал, который будет перерабатывать художественный гений (он верил, что во мне есть творческий гений). Тогда уже – слишком преждевременно, – на пороге 1925 года, Дягилев убедил меня приступить к «хореографическому» творчеству и дал мне постановку «Зефира и Флоры». Если до «Зефира» я просто мечтал о хореографическом творчестве, даже тогда, когда еще не умел танцевать и мало понимал в этом искусстве, то балет «Зефир и Флора» дал мне веру в себя, укрепил во мне чувство творчества, показал мне, что я смогу стать хореоавтором. Я продолжал тайно учиться (тайно от других, но не от Дягилева: я создавал хореографические черты в балетах Баланчина при нем в комнате) – я знал, что наступит день испытания, когда я стану творцом-хореоавтором, или мне придется навсегда похоронить эту мечту. И этот день настал – в холодных, безразличных сумерках.
За завтраком, с холодным доверием ко мне – хореографу, Сергей Павлович хочет меня записать на афише сезона.
– Нет, Сергей Павлович, – попросил я, – подождите меня еще записывать, дайте мне подумать, дайте мне партитуру, и через несколько дней я вам дам ответ, могу ли я взять на себя постановку.
Я взял партитуру, стал изучать ее, и тут мне сразу пришла мысль построить балет на параллели хореографического и акробатического исполнения; я захотел в «Renard’e» выразить постройку движения в его формах, найти современный небоскреб танца, соответствующий музыке Стравинского и кубизму Пикассо. Я поделился своею мыслью с Дягилевым, которому она очень понравилась. В наш разговор вмешался Б. Кохно, который стал доказывать, что моя выдумка ввести акробатов очень удачна, но необходимо ограничиться одной акробатикой и не разбивать впечатления танцорами, хореографическим элементом. Дягилев молча слушал наш спор и прекратил его словами:
– Сейчас не стоит спорить. Пусть Сережа поработает, сделает несколько балетных эскизов, по которым можно будет судить о том, что он хочет дать, а мы тогда увидим, посудим, потолкуем. Ты, Сергей, не слушай теперь никого и делай так, как тебе подсказывает твой художественный инстинкт.
Я стал работать один в зале «Плейель» и в несколько репетиций сделал хореографические наброски образа-танца в вариациях Петуха и Лисы. Часто я приходил в отчаяние и беспомощно озирался вокруг себя, ища если не помощи, то хотя бы поддержки, – никто мне не помогал, никто не поддерживал меня…
23 февраля Сергей Павлович сказал, что на следующий день придет смотреть мою работу. С волнением и страхом ждал я этого следующего дня – 24 февраля, который должен будет решить мое будущее. Я должен буду завтра выступать не перед моим «Котушкой», с которым у меня было столько «разговорушек» эти пять лет, а перед Дягилевым – директором Русского балета, самым большим, единственно великим Критиком и Судьею всей художественной жизни XX века, пророком и угадчиком; его осуждение равносильно смерти в искусстве, его одобрение – пророчит, предсказывает великое будущее, большую творческую жизнь. И от того, что этот Критик, этот Судья художественной жизни нашей эпохи – мой лучший друг, от этого мне ничуть не было менее страшно. Я знал, что он произнесет свой суд – свой приговор – без сожаления, что ничего не утаит из дружбы или жалости, что мой стыд, мой позор – его стыд, его позор, который он не станет скрывать. 24 февраля Сергей Павлович был в зале «Плейёль» и одобрил эскиз танцев Петуха и Лисы – одобрил без внешнего энтузиазма, без всяких громких слов и фраз, но одобрил. Пришел и на следующий день, опять с большим интересом и одобрением следил за моей работой и объявил на 1 марта суд, мой «страшный суд». Я весь ушел в творческую работу, в совершенно новый мир, в новые чувства, в новые настроения, в новые мысли, стал одержим вечным кипением, вечной горячкой. Мысли и чувства так напрягались и так горели, что минутами становилось страшно: а вдруг не выдержит мозг этого напряжения и разорвется или произойдет какая-нибудь остановка, которая будет катастрофичной? Что, если я умру до окончания создания «Renard’a»? Только бы дожить! Что, если я не сумею сотворить или артисты не помогут мне выразить то, что так теснится во мне и теперь уже настойчиво требует своего выражения? Тогда я потеряю себя, откажусь от себя, откажусь от своего положения, от танцев, от успеха и стану ничем…
Я был полон своим творческим жаром, и этими мыслями, и… обидой на то, что «им» – моей «семье» – не было никакого дела до меня и до моих мыслей и чувств. И когда я слышал их смех, у меня показывались слезы, камень обиды давил меня, я сжимал зубы, чтобы удержаться и не выйти к ним и не разрушить их смеха, не разрушить легкости их дня.
Настало 1 марта – день «страшного суда». Озлобленным и раздраженным пошел я на репетицию. На репетицию пришли Сергей Павлович, Ларионов (ему принадлежали декорации «Renard’a») и Кохно. Репетиция прошла в холодной атмосфере молчания. Я с аккомпаниатором начал вариации Петуха и Лисы и показал некоторые эскизы – «судьи» молчат… Для того чтобы отдохнуть и набраться сил (вернее, собраться с силами), я вышел в уборную и стал прислушиваться к начавшемуся тотчас после моего ухода горячему спору. Сергей Павлович яростно оспаривал Кохно, я слышу его слова: «со времени „Sacre du Printemps”» [344]… «совершенно феноменально»…
Сергей Павлович повысил голос, и мне было слышно каждое его слово.
Я вышел показать еще один кусочек – теперь уже совсем в другом настроении, уверенный, ликующий, – знал, что Сергею Павловичу нравится.