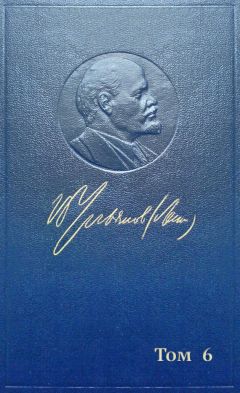Федор Палицын - Записки. Том II. Франция (1916–1921)
Главные основания устройства тылового управления были представлены в Главное управление в декабре 1916 года, я уехал в мае 1917 года, и ответа об утверждении получено не было. <…>
С неполным составом управление начало свою работу и внесло некоторый порядок в жизнь больных и раненых. Много потрудился полковник 1-го полка Киселев{72}, выбранный мною старшим комендантом. В январе или феврале я посетил все госпитали юга и Мишле. Содержание, помещение и старания французских госпитальных властей и общества по отношению наших людей не позволяет требовать большего. В медицинском отношении, говорят, были прорехи, но где таковые не бывают при массовой работе и, наконец, укоры эти возникают у наших врачей и по другим основаниям. <…>
19-V/2-VI-17
Итак, тыловое устройство и по настоящее время не утверждено, состав не прислан, а то, что было установлено временно на юге, могло только несколько упорядочить жизнь людей в госпиталях, среди которых большой % был здоровый.
Держались, пока не произошел переворот, а затем со дня на день, в особенности после боев, когда в существующие и новые прибыло свыше 4800 больных и раненых, брожение все более и более увеличивалось.
Во второй половине апреля я поехал в Бурже, чтобы осмотреть, как размещены наши раненые.
Французские власти, неизвестно почему ожидали, что потери при наступлении будут сравнительно небольшие. Действительность оказалась, однако, иная. Потери были большие, и в деле эвакуации и призрения оказались прорехи. Пришлось направить туда, куда не думал, и наскоро создавать госпитали, где таковых не было. Раненые наши в значительном числе были направлены в Бретань, даже в Бордо и наконец в Бурже, где их совсем не ждали.
20-VI–I7
Недаром сложилась народная поговорка, что со своим уставом в чужой монастырь не суйся.
Наши привычки не подходят французам. У нас одна с ними общая черта – они формалисты и канцеляристы даже больше нас. Бумажки все, а в делах административных формальность у них играет большую роль и здесь уступки, как и в наших высоких и невысоких канцеляриях, ждать нельзя.
После моей поездки в южные госпитали я был у Годара и получил обещание, что наши люди будут причислены к разряду gros mangeur[8], что отдано будет приказание, чтобы им готовили пищу более подходящую и чтобы были бы приняты меры для их размещения вместе. Игнатьев оформил бумажкой и издан был циркуляр военного министра. Так как никто не предполагал, что в Бурже могут послать русских, то циркуляр или не дошел или его не прочли. Но кроме формалистики во французских госпиталях большая дисциплина и порядок. Французские больные пользуются относительной свободой, но в определенные часы они точно должны возвращаться в госпиталь. Вне, ведут себя прилично и исключения в этом редки. Власть в руках начальника госпиталя.
Наши люди, к сожалению, вели и ведут себя как дети. Самовольно приходят и уходят, в одежде не соблюдается опрятность, а за неимением форменной, выходят. Бог знает в чем, напиваются. Когда ворота заперты, перелезают заборы, не исключая калек. В наших госпиталях в России, при надзоре, относительный порядок. Во Франции, при отсутствии надзора, выходит беспорядок, портивший репутацию русского человека вообще. Для установления порядка принят был ряд мер: учреждены коменданты с несколькими н. ч. и портными, чтобы чинить одежду, оправлять казенную обмундировку, ибо с позиции люди приходили иной раз в одном белье, выдача белья и т. п. мелочей. <…>
Как всегда я всех обошел, со всеми поговорил подробно, употребив 1½ дня на обход 500 больных.
Некоторым, особенно сильно раненым дал Георгиевские медали. Один тяжело раненый со слезами благодарил, что посетил их: «Господь Вам воздаст, что Вы посетили нас».
Бурже не был подготовлен к приему раненых. Хотя из 500–94 были действительно раненые, а остальные столь легко задеты и контужены и совсем не пострадавших, что собственно половина могла бы остаться при частях, но размещены были вообще тесно, в особенности в военных госпиталях. Два госпиталя были очень хороши и люди были довольны и благодарны; остальные были переполнены, и в одном один раненый заявил, что при перевозке его ударили. Это была правда. Начальник военного госпиталя, очень сконфуженный, заявил, что такие случаи не будут. И окружному заявил, что такие случаи совершенно не возможны, как бы не были утомлены и раздражены врачи; были случаи не мягкого снимания повязок, был случай, что солдат заявил, что у него сидит осколок в боку, а врач заявлял, что ему в день привоза сделали фотографию, и что солдату кажется. Однако, опросив соседей и больных, я настоял, чтобы мне дали фактическое доказательство сделанного. После разбора оказалось, что солдат был прав. Обещали сделать. По приезду в Париж я послал начальнику госпиталя официальную телеграмму, сделана ли фотография, и получил ответ, что все сделано и с благоприятным исходом. Все эти недостатки являлись результатом несоответствия числа раненых с врачебным персоналом, не знавшим языка.
Но эти факты, жалобы солдат перекатились в полки и послужили предметом митинговых заседаний и предъявления мне требований. Но это был только предлог: ибо недостатки эти были устранены, равно невысылка денег и т. п.
Такое время мы переживаем, что все требовали, и с яростью, лишь бы найти обвинение. По существу же, беря во внимание обстановку, раненных и больных, в госпиталях никаких требований возбуждать не могли, ибо получали то, что французские раненые и больные, не меньше, а затем стали получать, как gros mangeurs, и больше. Однако французские раненые на это претензий не возбуждали. В общем, кто-то, вероятно, их немало, сеяли между нами и французами раздор, и очень настойчиво. Наши наивные люди принимали все за чистую монету, и сплетни и женевские газеты настроение это обостряли. И среди офицеров и кругом ходил слух, что и Лохвицкий неосторожными словами поддерживал какое-то раздражение к французам. Месяца 2 тому назад, или вернее, 6–7 недель, когда в частях был полный разлад и полное отсутствие внутреннего порядка, это раздражение было особенно сильно, и, к сожалению, обострилось, приняв стыдные формы. Не знаю, как теперь, надеюсь, улеглось. Люди все-таки инстинктивно чувствовали, что то, что у них делается, французам не нравится. Не могли они не чувствовать, что наше бездействие у нас и братание с немцами, бесконечные митинги, шатание по окрестностям, не могло нравиться французам. Французы огородились от наших в квартирном расположении часовыми, и наших к себе не пускали. Вообще отношения изменились. Среди наших бродили пущенные слухи, что их разоружат и поставят на работы и, что всего более боялись, – что отправят в Салоники. Праздная и безопасная жизнь понравилась. Харчи такие, что не съесть, и дела никакого. 5 апреля вывели из линии 1-ю бригаду, после двухдневного боя, 7 апреля, 3-ю бригаду, и с тех пор они ничего не делают. В боях вышло из рядовых 5 тыс., но из них 3 тыс. таких, о которых и говорить не приходится и которым лучше было бы оставаться в строю. Очень стыдно было слышать это от французов.