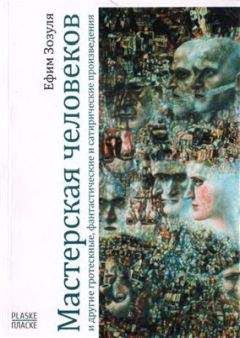Маня Норк - Анамор
Вендиспансер в Тарту находился на улице Бурденко. Эту улицу студенты называли «Трипперштрассе». В вендиспансеровском доме жил Юрмих.
Про вендиспансер ходило много историй. Вот одна из самых колоритных. Некий студент заразился гонореей. Из диспансера на него пришла «телега» в универ. И тогда студент стал уверять всех, что виновница его трипака — банная скамейка! («Я просто чуть-чуть посидел на ней, и вот.») Самое смешное, что находились люди, ему верившие. Более того — студент и сам стал думать, что так оно и было, и когда пошёл на очередной приём в вендиспансер, пытался втюхать эту историю врачу. Но тот был неумолим: «Послушайте, вы могли заразиться от скамейки, только если вы её. ээээ. ну, понятно что».
Говорили, что этот студент — с горя и сильно поддатый — выбросился из окна пятого этажа, упал в лужу, проспал там несколько часов, встал и пошёл...
Также город перешёптывался о рыжей тётке, которая шныряла около этого диспансера. Тётка была с помятым лицом цвета гнилого абрикоса. Возраст её оставался загадкой. Чего только про неё не говорили .
Одни утверждали, что ей лет шестьдесят и что во время войны она была студенткой Тартуского университета, спала с немецким офицером, а после войны её отправили в лагеря, и оттуда она вернулась уже совершенно спятившей, работала уборщицей на швейной фабрике и мыла голову в унитазе. Другие — что ей на самом деле не больше сорока, а выглядит эта рыжая так, потому что сильно киряет. Причём пьёт она не водку, а только «благородные» напитки — коньяк, бренди, вермут, которые ей дарят высокопоставленные хахали («Как. и этот? Из КГБ? Правда?!...Ну-ну.»). И все эти хахали прям на руках её носят, несмотря на то, что рыжая их всех периодически заражает, а те передают болезни своим законным жёнам.
Третьи морщились: «Да нет. ну что вы придумываете! Просто, я сам слышал, эта баба когда-то работала в психушке санитаркой, и у неё самой в конце концов шарики за ролики зашли. И когда она подцепила триппер, то стала заражать своих психов. Её за это с работы выгнали. Хотели под суд отдать, да повезло ей — объявили невменяемой...»
Слухи о рыжей бабе с каждым годом становились всё страшнее и страшнее. У нас в школе шептались, что она каждый год рожает детей и сдаёт их в детдома. Что она сидела в тюрьме за детоубийство («Схватила ребёночка своего, только родился он, за ноги да и об угол!» «Да не только своего, она вообще детей воровала и кровь из них пила, сука ржавая!») Что она поселилась на кладбище и ночью вырывает трупы и воет на луну.
Когда я однажды увидела рыжую тётку на улице Бурденко, то перебежала дорогу, встала у дверей Этнографического музея и оттуда наблюдала за ней. Тётка направлялась к вендиспансеру. Она была в ярко-лиловом плаще, полосатых клешах и красных туфлях на огромной платформе. В прозрачной сетке позвякивали баночки с анализами. Тётка остановилась, взглянула на солнце и блаженно улыбнулась. На пороге вендиспансера сидел рыжий кот с покарябанной мордой.
Через десять лет я увидела эту женщину в «Вернере» за одним столиком со старухами. На ней было то же самое лиловое кримпленовое пальто.
Я знаю, этот сон опять может мне присниться, сон о старухах.. Вернеровские пенсионерки в своих шляпах-грибах и больших беретах сидят в кафе и громко грызут тропсы, совсем по-собачьи. Тропсы — это леденцы моего детства, круглые, продавались они в столбиках. Из старухиных ртов летит скользкая крошка и оседает на столики, на пол, на стойку, на окна. Старухи играют в карты, тоже леденцовые. Только очень тонкие — раскатанные тропсы. Бьют этими картами друг друга по носу, и от этого ещё больше этой самой крошки. И вместо монеток у них — тропсы, тропсы, тропсы. Целый корпус тропсов. Трупсов. Хруст, треск. Хрясь! Рядом — рыбинские бабки в белых тапочках и цветных халатах: «Ишь, насвинячили! Гнать бы их отседова.» И скользят по леденцовому полу, и падают.
Старухи ложатся в гробы, как монпасье в жестяную банку — нерасхрумканные. «Это вы, молодые, шелестите, журчите, звякаете. Это вы порхаете и падаете и разбиваетесь. Мы — нет. Это вас, молодых, можно мять, давить, корёжить. Взбалтывать и впитывать. Мусолить и мямлить. Опрокидывать, раскидывать и выкидывать Нас — нельзя. Мы — твёрдые. Мы не кончимся! Не дождётесь.»
У некоторых вернеровских старух были семьи, но они относились к ним точно, как рыбинские бабки. Ну дети, внуки. Наше дело — не вытирать внукам носы, не вязать шарфики, а сидеть вот за этим столиком, пить кофе, есть пирожные «картошки» или эклеры, с кофе — не таким, как до войны, но выбирать-то не приходится. И говорить, говорить, говорить.
Несмотря на обилие поглощаемых пирожных, вернеровские старухи не были толстыми.. Очевидно, весь сахар и все жиры сгорали в пересудах. А среди рыбинских бабок попадались и полные, даже очень. Будто всё в них впитывалось, да так и оставалось.
Сегодня я почти не спала. Утром задремала и в дрёме увидела старух — тех, вернеровских, 70-х годов. Они пили современный кофе — эспрессо. И свет постучал в мою каменную морду, и я открыла глаза.
Вчера я не спала вообще и видела, как старухи положили меня в бессонницу, как в белый гроб. Или в гриб — тот, белёсый, дождевичный, в который мы когда-то вступили с мамой и думали, что это просто туман, а это был анамор. И я стучусь в стенки этого гроба-гриба, и меня выпускают наконец — кто? Не старухи же. И я тут же оказываюсь в новом гробе-грибе.
Я не проснулась — потому что совсем не спала. А старухи удалились туда, где начинается закат.
Хрупс, тропс, гробс. Хрупс, тропс, гробс. Хрупс, тропс, гробс.
Пришли старухи, пришли страхи. И не ушли.
8.
В детском саду я отшатнулась от пластмассовой буратининой головы — там копошились дождевые черви, вывалянные в песке. Страхи пришли.
Тогда же я увидела во сне свой фильм. Вокзал. Огни крадутся сквозь темноту, но не прорезают её. Мужчина держит в одной руке чемодан, а в другой — голову. Свою. Оторванную. Именно оторванную, а не отрубленную. Лицо на этой голове растерянное какое-то. Может, сам мужик и оторвал её и буквально через секунду пожалел об этом, но обратно ведь не прирастёт голова. Вокруг столпились люди. Одна из женщин похожа на мамину двоюродную сестру Тамару — тип голливудской блондинки пятидесятых. Кто-то напевает: «На вокзале. У человека. Оторвалась. Голова». Не грустно, не весело, вроде «мммммм.». Фильм очень короткий. Когда я потом пересказывала его знакомым, мне говорили: «Да придумала ты это всё. Ну, не может маленький ребёнок видеть — такое! А если и видит, то не запоминает». А кто-то вообще сказал, что у меня очевидная шиза. И только один человек поверил мне.
Как жаль, что я его не любила.