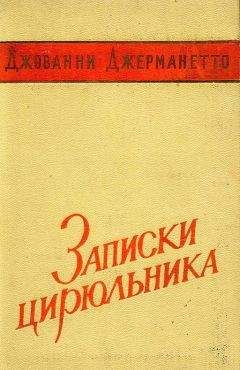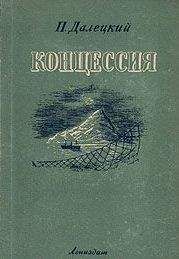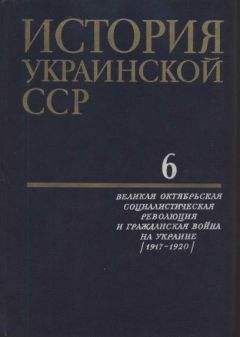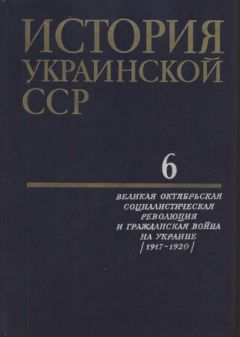Владимир Архангельский - Ногин
Вдоль высоких домов, во всю длину першпективы, шумел и ярился людской поток. Бежали мальчишки, посыльные, разносчики товара; спешили гимназисты, студенты, модистки, горничные. Быстро шли праздные женщины — тонкие и толстые, высокие и приземистые, старые и молодые, в платках и в шляпках, метя каменные плиты тротуара длинными платьями. Толпились молодые хлыщи небольшими кучками — в котелках и в шляпах — и раскланивались с прохожими, словно все были знакомы или находились в свойстве. Легкий дым сигар, белые перчатки, узкие пальто с бархатным воротником, зонты, зонты, зонты, трости. Но ярче всего бросались в глаза синее и голубое сукно военных, лампасы, околыши, аксельбанты, кивера, султаны и звенящие шпоры на франтоватых, натертых до блеска сапогах.
Обгоняя дребезжащую копку, мчались чудо-кони в лакированной сбруе, с серебряными бляхами на крупе. Блестящий черный лак фамильных карет, вензеля, кремовые шторы, приглушенный топот копыт на торцах мостовой. И кучера, как выходные актеры в сказочной пьесе. И ловкие извозчики, словно ввинчивающиеся со своими пролетками в несусветную сутолоку людных перекрестков. Да, это не Москва, это Европа, но с бесшабашным русским аллюром и помрачающей ум неразберихой!
Потом была безлюдная площадь с воинственным ангелом на высокой колонне, зеленый и белый Зимний дворец, холодная свинцовая Нева, а за ней островерхая серая громада Петропавловской крепости, деревянный мост и две ростральные колонны; на них, как на ораторских трибунах древнего римского форума, были налеплены носы захваченных в плен вражеских кораблей.
«Офицеры, генералы, доблести воинской славы на каждом углу, и эта праздная толпа на прошпекте — не много ли всего этого для одного города? — размышлял Виктор, когда конка дотащилась до Петербургской стороны. — Вот она, «хитрая механика» в действии. И что мне сулит эта Северная Пальмира?»
Он подхватил свою корзину, взвалил ее на плечо и отправился искать дом № 3 на Большой Подьяческой улице.
Андрей Дорогутин был дома, давний знакомый, еще с детских лет, сверстник Павла и почти родственник — троюродный племянник Варвары Ивановны. Он, как и Павел, служил в конторе, но не в мануфактурной фирме, а у известного часовщика Павла Буре на Невском, почти обочь с Казанским собором. Но последние два дня не работал — ходил с повесткой в воинское присутствие и все ловчил, как бы увильнуть от призыва. Был он парень толстый и добродушный, не очень румяный, как все старожилы Петрова града на Неве, и в меру ленивый, как те счастливые конторщики, которых не очень утомляет должность и не гнетет нужда.
Андрей не занимался по вечерам, не ходил в театры, редко ездил на острова и раз в неделю прогуливался по Мытнинской набережной с дочкой просвирни, которую прочили ему в жены. А в остальные дни лежал с книгой на диване: он не делал жизнь, она уже прочно определилась службой и шла, как заведено. Любил он толстые романы Петра Дмитриевича Боборыкина, с густым кондовым бытом и натуральными подробностями о любви, и особенно нашумевший роман про Василия Теркина. А еще увлекался многотомными книгами романиста Александра Дюма-старшего, где действовали кровожадные короли и галантные мушкетеры, графы, герцоги, авантюристы и подвижники. С «Королевой Марго» в руках он и встретил Виктора:
— Калязинскому мещанину Виктору Павлову Ногину — почет и уважение!
— Здравствуй, Андрюша. Только зачем так пышно именуешь?
— У тебя и в паспорте так отмечено, мне Паша недавно в письме сказывал.
— Так и есть, — улыбнулся Виктор.
— А ведь я это к тому, что мой Дюма был у вас в Калязине лет сорок назад. Из Переславля проследовал, на пароход сел возле вашей Свистухи и отбыл в Кострому. Эх, и пишет, оторваться не могу! — Андрей щелкнул по переплету «Королевы Марго». — Ну, располагайся, сейчас кофием угощу.
— Чайку бы лучше, по-московски.
— У нас не принято. А тебя уже ждут за Невской заставой. Поешь — и отправляйся. Сам найдешь дорогу аль проводить?
— Не в лесу, доберемся. Да и привыкать мне надо. Хочу сам Питер узнать. И людей желаю найти, которые о мастеровых печалятся.
— Круто берешь, Виктор! Не больно-то их сыщешь. Слух был, что они теперь на Шпалерной да в Крестах!
— А што это?
— Тюрьма, брат, одна и другая. Помнишь, забастовку делали этим летом? Все там! Болтают люди, что в одной Петропавловской крепости камеры не заняты. Вот и попадешь туда, как в гробу будешь!
— Не стращай, Андрюша! Что ж, у вас и слова молвить нельзя? Скажешь чего-нибудь — и сейчас же в тюрьму? А как же быть-то? На фабриках, ой, как не сладко! Гляди, один год поработал в красильне, а руки до локтей в рубцах, — засучил рукав Виктор. — Должен же кто-то про то думать, чтоб жилось нам лучше. Тебе-то что: сыт, здоров, работа чистая, даже брюшко завел. И небось боишься всего: вдруг такая жизнь кончится? Только никто тебя не тронет, если ты не холуй и не наушник. А хозяевам достанется. Хочешь, я тебе «Хитрую механику» покажу:. книжонку махонькую, на Сухаревке намедни из-под полы достал? Это тебе не «Королева Марго»: в один день глаза раскроет. И станет тебе ясно, кто с меня и с таких, как я, лыко дерет без всякой совести.
— Что ты, что ты, Витя! Зачем мне твоя «Механика»? Мне подходит пора жениться. Не призовут в часть, я и под венец.
— Ну, как знаешь. Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович, здорово про это писал: кому, говорит, конституция, а кому — севрюжина с хреном. Только, на мой взгляд, правда всегда берет верх. «La raison finit toujours par avoir raison», — сказал бы твой Дюма. Он в этих делах кое-что понимал… А корзинка пускай у тебя постоит, я приеду за ней под вечер…
Через год, когда «Питер бока вытер», Виктор обжился в столице, и получился из него настоящий мастеровой.
Похудел он и вытянулся, пропал его московский румянец. Руки не отмывались от краски, и всю половину суток не вылезал он из брезентовой рабочей куртки, пропахшей лаком и кислотой.
Про шумный Невский почти забыл. Жизнь ограничивалась теперь одним заставским квадратом: по-соседски две фабрики — Паля и Максвеля в селе Смоленском; Шлиссельбургский проспект, завод Семянникова и трактир «Бережки» на левом берегу Невы. Да зеленый кусочек земли возле Кеновьевского кладбища — за рекой. А когда проезжал по Невскому — по делам либо в гости к Андрею, — все его там раздражало: и неумеренный блеск вечерних витрин, и толкотня сытых бездельников возле кафе Филиппова, и шикарные экипажи, которые запружали подъезды к Александринскому театру, когда кончалось там представление.
Никому он не завидовал в этой праздной толпе. Он иногда лишь пытался представить, что будет с этой толпой, когда все его товарищи — красильщики, отбельщики, а с ними и соседи — металлисты — вдруг выйдут лавиной на этот проспект, крепко взявшись за руки, и запоют песню своей победы, как пели ее на Елисейских полях в дни Парижской коммуны. Но это была такая дерзкая мысль, что он поспешно прятал ее в далекий тайник души.