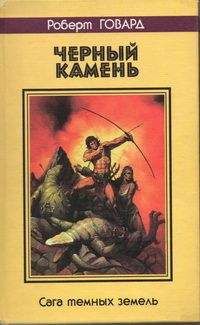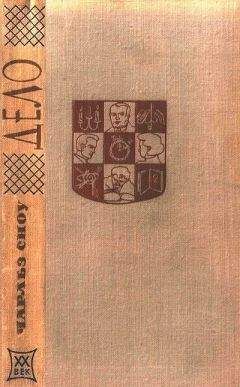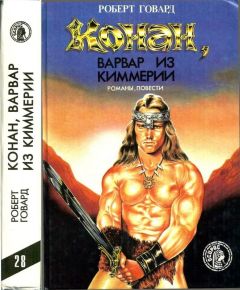Г. Слиозберг - Джон Говард. Его жизнь и общественно-филантропическая деятельность
Небольшой бедфордской тюрьме суждено было сделаться, так сказать, колыбелью тюремной реформы. Та же самая тюрьма за сто лет до того прославлена была пуританином Беньяном, бывшим в течение двенадцати лет ее узником. Сидя в этой тюрьме, он написал свою знаменитую книгу “Pilgrim's Progress”[2]. Беньян был личным другом Мильтона и Кромвеля; осужденный при Реставрации Стюартов по обвинению в отрицании божественного происхождения королевской власти, он отбывал наказание в той самой бедфордской тюрьме, где Говард впервые стал проявлять свою реформаторскую деятельность.
Первое, что обратило на себя внимание Говарда, – это установившийся обычай не назначать жалованья тюремным смотрителям, а сдавать им тюрьмы как бы на откуп. С указания на это Говард начинает свою книгу “The State of the Prisons” (“Состояние тюрем”): “Ужасное положение заключенных, о котором мало кто имеет верное представление, впервые обратило на себя мое внимание в бытность мою шерифом Бедфордского графства, и главным обстоятельством, возбудившим мою деятельность в пользу заключенных, было то, что арестованные, признанные невиновными в суде, должны были платить деньги за свое содержание в тюрьме. Нередко люди, не только не осужденные, но и освобожденные от всякого уголовного преследования вследствие отсутствия достаточных улик для предания суду, должны возвращаться в тюрьму и оставаться в заключении, пока не уплатят смотрителю за свое содержание в тюрьме и сверх того не вознаградят секретаря ассизов за его труд по делу и т. д. Желая устранить эту жестокость, я обращался к судьям графства с предложением назначить определенное жалованье смотрителю вместо того, чтобы предоставлять им взимать плату с заключенных. Это предложение было встречено сочувственно, высказана была готовность установить такой порядок; но нужно было указать на прецедент, для того чтобы возложить на графство этот новый расход. И вот я отправился в соседние графства, разыскивая, не установлен ли где предлагаемый мною способ содержания тюремных смотрителей, но вскоре, к сожалению, убедился, что везде существует тот же несправедливый порядок, против которого я восставал. Мне пришлось натолкнуться на ужасные картины бедствия, причем по мере моего знакомства с плачевным состоянием мест заключения во мне все более и более крепла решимость помочь несчастным. С целью подробного изучения дела путем точного и разнообразного наблюдения я посетил большинство местных тюрем в Англии”. Чтобы понять всю трудность задачи, поставленной себе Говардом, необходимо хотя бы вкратце остановиться на положении уголовного законодательства и юстиции конца XVIII века как на родине Говарда – в Англии, так и в остальной Европе.
В законодательствах господствовал один только принцип, которым руководилась уголовная юстиция, – устрашение преступника и граждан вообще. В наших законодательных памятниках этот принцип выражался афоризмом “бить нещадно, дабы, на то глядя, другим озорничать неповадно было”. И в научной обработке начал уголовного права, под тем или другим видом, в конце концов приходили к тому же основному началу. Каноническое право не видоизменило этого принципа, даже, наоборот, больше укрепило его. Принцип раскаяния, из которого потом выросло благодетельное начало исправления преступников, был слишком малосущественным и почти не имел практического значения уже по одному тому, что раскаяние предполагалось как следствие суровых карательных мер. Попытки смягчить принцип устрашения идеей справедливости – не удавались. Оно и понятно – личность преступника не принималась в расчет; его деяние требовало отмщения или вызывало необходимость общественного или государственного воздействия. Преступное деяние представлялось опасным для общественного порядка, необходимо было оградить общество или государство от нарушителя порядка, – это сделать нетрудно, раз преступник попался в руки правосудия: стоит лишь бросить его в тюрьму, лишить его жизни. Человеческая личность сама по себе не имела никакой ценности; государство, сословие, цех поглощали ее вполне: человек представлялся каким-то материалом – не субъектом прав, а объектом, – владычествовала масса, корпорация, сословие. Понятно, что не существовало никакой соразмерности вины с наказанием. Отсюда такое изобилие казней.
В нашем русском уголовном законодательстве очень рано проявилось стремление извлекать пользу из заключенного, эксплуатировать его для государства; вот почему в истории карательной системы у нас весьма незначительную роль играли тюрьмы, – их было немного. Стоит взглянуть на Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года, чтобы убедиться, какое ничтожное место в карательной системе отведено тюремному заключению. Если за данную вину не полагали справедливым казнить, то виновный эксплуатировался в государственных интересах, – вся ссылка сложилась под влиянием принципа полезности, т. е. извлечения пользы для государства из личности преступника. Но если у нас этот принцип призван был к жизни благодаря особым условиям и главным образом колонизационным стремлениям правительства, то на Западе для применения его не было места. Идея же тюремного труда тогда еще не народилась. Места заключения, где тюремный труд тогда применялся, являлись лишь в виде исключений, притом они не были собственно тюрьмами, а рабочими домами, в которых содержались не преступники, а бедные, нищие, бродяги.
Заботиться о содержащихся в тюрьмах не было никакого интереса для государства. Попавший в тюрьму редко из нее выходил: сроки заключения не были короткими, большею частью преступники содержались в заключении пожизненно. Крепкая тюремная ограда и запоры отделяли непроницаемой стеной мир тюремный от всего прочего мира. Только последний мог кого-либо интересовать; всё же, что находилось внутри ограды, было забыто, – арестанты считались заживо погребенными, – кому было дело до того, раньше или позже подвергнется физическому и нравственному разложению заключенный в тюрьму живой труп. К тюрьмам можно было буквально применить слова Данте об аде: “Оставьте всякую надежду, входящие сюда”.
Таково было общее положение тюрем с небольшими видоизменениями в разных странах. Если где и существовало попечение о тюрьмах, то оно всецело находилось в руках духовенства, – особенно там, где имелись духовные ордена. Государство же нигде никаких забот о тюрьмах и о заключенных в них не проявляло. Замечательно, что Англия, служившая образцом правильности отправления правосудия и выработавшая суд присяжных, привлекавший в конце XVIII века внимание всех реформаторов в области законодательства, – что Англия не только не стояла впереди континентальных государств в налаживании тюремного дела, но во многих отношениях оказывалась позади их. Насколько совершенен был судопроизводственный строй, настолько же устарелым и неприглядным было законодательство о преступлении и наказании. Личность гражданина нигде не была так гарантирована от административного произвола, как в Англии, создавшей еще в 1215 году “хартию вольностей” и Habeas corpus act. Но если тот же вольный гражданин осужден, попал в сети уголовного закона – ничто уже больше не гарантировало его человеческих прав: над ним устанавливалось то, что только в недавнее сравнительно время получило законодательное название “уголовного рабства” (penal servitude). В современной карательной системе и организации в Англии уголовное рабство есть высший после смертной казни род наказания, между тем как в Англии XVIII века, когда смертная казнь применялась так часто, как ни в одном европейском государстве (более двухсот деяний каралось смертной казнью), тюремное заключение в виде абсолютного рабства было сравнительно легкой карательною мерой, являвшейся следствием даже незначительных правонарушений, во всяком случае менее значительных, чем простая кража, каравшаяся смертью.