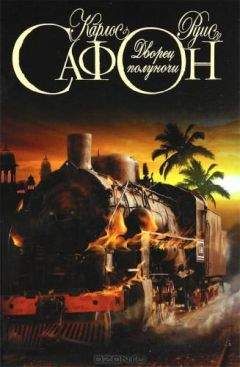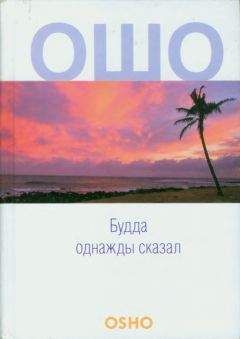Андрей Сахаров - Воспоминания
Я почти никогда не слышал от папы прямого осуждения современного режима. Пожалуй, единственное исключение — в 1950 году, когда папа в предельно эмоциональной форме высказал свое мнение о Сталине (он так при этом был взволнован, что мама испугалась, чтоб ему не стало плохо). Я думаю, что, пока я не стал взрослым, папа боялся, что, если я буду слишком много понимать, то не смогу ужиться в этом мире. И, быть может, это скрывание мыслей от сына — очень типичное — сильней всего характеризует ужас эпохи. Но косвенное осуждение постоянно присутствовало в той или иной подспудной форме.
Несколько иной была позиция дяди Вани. Он гораздо определеннее высказывался о политических и экономических вопросах. Я постараюсь рассказать об этом, опираясь на папины слова, сказанные уже в последние годы его жизни, при этом, конечно, интерпретируя их в духе своей теперешней позиции. Социалистическую систему он считал принципиально неэффективной для удовлетворения человеческих нужд, но зато чрезвычайно подходящей для укрепления власти. Одну из формулировок я запомнил: в капиталистическом мире продавец гоняется за покупателем и это заставляет обоих лучше работать, а при социализме покупатель гоняется за продавцом (подразумевается, что о работе уже думать некогда). Конечно, это все же только афоризм, но мне кажется, что он какую-то долю глубинной истины отражает.
Другое — не менее важное — отношение социалистической системы к гражданским свободам, к правам личности — проблема реальной, а не провозглашенной свободы; и третье — нетерпимость к другим идеологиям, опасная претензия на абсолютную истину. Но все это вошло в круг моих сомнений гораздо поздней, и если мои родные и имели какие-то мысли на этот счет, то мне они были непонятны. В это время я находился на предыдущей ступени — я усваивал (и с большой симпатией) идеологию коммунизма. Помню, например, что, узнав (в возрасте 12-ти лет) о государстве инков, я радовался этому, как экспериментальному подтверждению жизненности социалистической идеи. Много лет спустя Шафаревич в тех же самых фактах увидит подтверждение прямо противоположному.
Я помню слова бабушки:
«Русский мужик — собственник, и в этом большевики сильно просчитаются».
И с другой стороны:
«Большевики все же сумели навести порядок, укрепили Россию и сами укрепились у власти. Будем надеяться, что теперь их власть будет легче для людей»
(очень приблизительная передача ее мыслей, но не формы — гораздо более живой).
Я тогда воспринимал (а в основном и сейчас воспринимаю) эти слова как проявление терпимости бабушки, ее широты. Но, пожалуй, есть и другая сторона, видная с позиций нашего времени, — терпимость проявлялась к новому, «имперскому» порядку, который создавался (или казалось, что создавался) после многих лет хаоса и «экспериментов». Не случайно бабушка в разговоре, как и другие люди ее поколения, употребляла выражение «в мирное время» (т. е. до 1914 года) — все потом было немирное. т. е. в этой терпимости был элемент ностальгии по стабильности. Сейчас тоже широко распространены ностальгия по стабильности и порядку, но уже не по дореволюционному, а именно по сталинскому порядку, по тому самому, современником которого была бабушка, о котором другая женщина написала:
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад…
Существенно, однако, в смысле позиции, что бабушка надеялась на постепенное смягчение и хотела его.
Несколько слов о позиции моих родителей по «национальному» вопросу. Сейчас уже трудно представить себе ту атмосферу, которая была господствующей в 20—30-е годы — не только в пропаганде, в газетах и на собраниях, но и в частном общении. Слова «Россия», «русский» звучали почти неприлично, в них ощущался и слушающим, и самим говорящим оттенок тоски «бывших» людей… Потом, когда стала реальной внешняя угроза стране (примерно начиная с 1936 года), и после — в подспорье к потускневшему лозунгу мирового коммунизма — все переменилось, и идеи русской национальной гордости стали, наоборот, усиленно использоваться официальной пропагандой — не только для защиты страны, но и для оправдания международной ее изоляции, борьбы с т. н. «космополитизмом» и т. п. Все эти официальные колебания почти не достигали внутренней жизни нашей семьи. Мои родители просто были людьми русской культуры. Они любили и ценили русскую литературу, любили русские и украинские песни. Я часто слышал их в детстве, так же как пластинки песен и романсов XIX века, и все это входило в мой душевный мир, но не заслоняло культуры общемировой.
Более подчеркнутая «русскость» была свойственна дяде Ване — она в нем была одновременно какой-то ностальгической и в то же время бесшабашно-лихой, очень эмоциональной.
Еще некоторые штрихи. Папа иногда, в связи с первой мировой войной и более далеким прошлым, с восхищением говорил о русских солдатах и офицерах, с переносом и на современную эпоху, но тут же говорил что-то аналогичное и о людях других национальностей. Вспоминал он и Суворова, но всегда в очень интересном контексте: якобы Суворов за всю свою жизнь не подписал ни одного смертного приговора — это была, как я думаю, некая форма оппозиции жестокому современному режиму (для меня образ Суворова поколебался, когда я узнал о разрешенных им зверствах в Варшаве и в других кампаниях, об участии в подавлении восстания Пугачева). Несколько раз папа говорил о том, какими талантливыми проявили себя русские эмигранты за границей (такие, например, как Зворыкин — изобретатель электронного телевидения). Русская культура моих родных никогда не была националистичной, я ни разу не слышал презрительного или осуждающего высказывания о других национальностях и, наоборот, часто слышал выразительные характеристики достоинств многих наций, иногда приправленные добрым юмором.
Сейчас уже не кажется невозможным, что русский национализм станет опять государственным. Одновременно — в том числе и в «диссидентской» форме — он изменяется в сторону нетерпимости. Все это только утверждает мою позицию, развивающуюся с юности.
В другую эпоху, чем мои родные, в других условиях, с другой философией и жизненным положением, с другой биографией я стал космополитичней, глобальней, общественно активней, чем мои близкие. Но я глубоко благодарен им за то, что они дали мне необходимую отправную точку для этого.
ГЛАВА 2
Книги.
Ученье домашнее и в школе.
Университет до войны
Первые книги читала нам с Ириной бабушка. Но очень скоро мы стали читать сами. Этому способствовало то, что в каждой семье в квартире была библиотека — в основном книги дореволюционных изданий, семейное наследство. (Конечно, бабушка, мои папа и мама, Ирины родные направляли нас.)