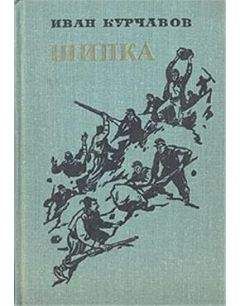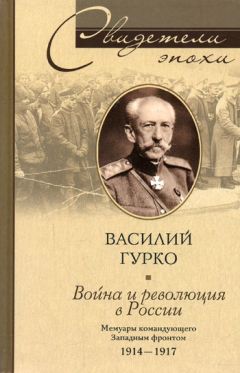Виктор Петелин - Жизнь Шаляпина. Триумф
Действительно, Шаляпин и полу-Книппер, полу-Чехова, как шутливо называли ее друзья в театре, чуть-чуть не упустили важный эпизод шумного и уже пьяного застолья.
– Господа! Прошу тишины… Недавно я получил письмо, которое имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему общему торжеству. Письмо личное, но, надеюсь, на меня не обидится человек, написавший его, если я кое-что прочитаю здесь из этого письма, послушайте: «Что делать, ты победил, назарянин!» Я начинаю делаться горячей поклонницей Художественного театра. После «На дне» я не могла опомниться недели две. Я и не запомню, чтобы что-нибудь за последнее время произвело на меня такое сильное впечатление. Но в особенности, что меня поразило, так это игра вас всех! Это было необычайное впечатление, о котором я сейчас вспоминаю с восторгом и не могу отделаться от этих ночлежников, они сейчас все как живые передо мной – вы все не актеры, а живые люди!» Господа, я не скажу, кто автор письма, по этическим соображениям, но я предлагаю тост за великую русскую актрису Марию Николаевну Ермолову!
Естественно, все дружно, стоя, выпили за Ермолову, никто после этого не сомневался, кто автор столь прекрасного письма.
– Федор Иванович, – заговорила Ольга Леонардовна, – иной раз она снится мне, чаще всего окруженная цветами. Думаю, к чему бы это, а потом вспоминаю: когда у нас бывает Мария Николаевна, мы всегда ей в ложу подкладываем цветы, все мы так ее любим. А вот была у меня Комиссаржевская, К.С.[1] приводил ее ко мне в уборную, совсем другое впечатление… В каком-то ярко-красном платье, болтали о незначительном…
Шаляпин и еще готов был слушать эту милую и несчастную женщину, которая столь трагически переживала свою разлуку с любимым мужем, а не могла быть с ним вместе, как хотела бы, потому что она – актриса, не может бросить театр, а он – больной туберкулезом – должен быть зимой в Ялте. «Господи, как тяжко жить на свете таким вот неприкаянным… Есть муж, нет мужа, есть дом и вроде бы и нет его, говорит же, что соседи так шумят, орут за стеной, что не может сосредоточиться на роли, в полный голос может репетировать только в театре. Разве этого достаточно?» Шаляпину стало так грустно и обидно за этих замечательных людей, что он незаметно для себя, вроде бы даже как-то бессознательно, налил себе рюмку водки. И тут услышал дружный хор мужских голосов:
– Шаляпина на сцену! Шаляпина на сцену!
Федор Иванович смущенно встал, протестующе поднял руки:
– Господа! Я ж только что болел гнусной горловой жабой, горло еще не в порядке, а вы…
– Шаляпин! Шаляпин! – снова и снова раздавались голоса.
– Ну ладно! Попробую не в полный голос…
На следующий день Ольга Леонардовна писала Чехову об этом ужине в «Эрмитаже»: «…Шаляпин рассказывал анекдоты, но не сальные, я до боли хохотала. Какой он талантливый! Пел он тоже, пел чудесно, широко, с захватом. Рассказывал о сотворении мира; о том, как поп слушал оперу «Демон»; как дьякон первый раз по железной дороге ехал; как армянин украл лошадь, но оправдался: лошадь, говорит, стоит поперек улицы, а улица узенькая, я мимо морды – кусает, я мимо зада – лягает, я под нее – она на меня верхом села, тогда я занес ногу через нее, она тут-то и убежала, значит, она меня украла, а не я ее. Это очень комично с армянским акцентом.
Качалов наш чудесно рассказывает, тонко, я первый раз слушала. Надо тебе его демонстрировать. Просидели мы до пяти часов. Я спала всего три часа…»
Из этого же письма Чехов узнал, что в театре была Ермолова, которая сказала, «что после 1-го акта она чуть не зарыдала – такое сильное впечатление»; 18-го, то есть на следующий же день после ужина в «Эрмитаже», снова давали «На дне», но Горький «ни за что не вышел, несмотря на то что публика безумствовала. Скандал просто был».
Скорее всего, под впечатлением встречи с Шаляпиным, который конечно же не мог ей не сказать о концерте Яна Кубелика и не высказать своих восторгов об игре юного маэстро, скрипача и композитора, Ольга Леонардовна 19 января, днем, пошла на концерт, и вот ее впечатления: «Что за гениальный мальчишка! Какая чертовская техника, звук, легкость необычайная! Я давно не слыхала ничего подобного. И мордочка интересная… Я так была счастлива слышать оркестр, музыку, даже в груди что-то сделалось, точно вот сейчас сознание потеряю…»
Так что не случайно Федор Шаляпин после болезни побывал на концерте Яна Кубелика: об этом говорила вся Москва, «масса народу».
Из этого же письма мы впервые узнаем, что Шаляпин собирается постом в Египет.
Глава третья
Поездка в Египет
Зима 1903 года была трудной. Болезнь горла, две операции, переживания за их исход, «Мефистофель» и «Борис Годунов» в Большом театре сразу же после болезни… И вот – поездка в Петербург, где одно за другим последовали два выступления в Эрмитажном и Мариинском театрах. Встречи с друзьями, расспросы о болезни, о самочувствии, о Москве, о «На дне»… Расспрашивали и о московских художественных выставках, спорили, покорил ли Москву Дягилев своей первой выставкой в Москве или победа его была пирровой… Нет, Шаляпин не был в Москве ни на одной выставке – не получилось.
Шаляпин все чаще задумывался над тем, что же происходит в России. В оценке чуть ли не каждого события или явления в литературе, в живописи, в театре сталкивались различные мнения, кипели страсти. И не только в печати… Встречаясь с друзьями, которых вроде бы хорошо узнал за эти годы, Шаляпин не мог заранее сказать, как тот или иной относится к происходящему в общественной и культурной жизни России. Чувствовались какие-то непонятные подземные толчки, приводившие людей в состояние нервной напряженности. Вот талантливый Влас Дорошевич опубликовал статью Александра Амфитеатрова «Господа Обмановы», он читал ее по совету Горького. И что же? Амфитеатрова сослали в Минусинск! И Горький резко осуждал министра внутренних дел Сипягина за несправедливое решение. «Долго эта ссылка не продлится, – говорил он в апреле прошлого года, когда Шаляпин был у него на Пасху, – беда невелика, у него сильные связи в Питере, похлопочут. Да и весь этот кавардак не может долго длиться в русской жизни. И тем, что будут отливать на окраины России бунтующую русскую кровь по каплям, ведь не исчерпают взволнованного моря этой крови. Зря только раздражают людей и этим раздражением создадут такую сумятицу взаимного непонимания и ожесточения, что лучше бы теперь отпустить вожжи. Не тот силен, кто прет на рожон, но и тот, кто умеет отклонить его в сторону. Глуп медведь, который сам в себя всаживает рогатину…»
Слова эти запомнились Шаляпину еще и потому, что почти тут же газеты сообщили об убийстве Сипягина прямо в Мариинском дворце каким-то эсером. За что? За то, что наводил порядок в стране, охранял покой граждан? Появились какие-то социалисты-революционеры во главе с Натансоном и Брешко-Брешковской, объявившие индивидуальный террор чуть ли не единственным средством изменения существующего строя. Сейчас на месте Сипягина – Плеве. И какая между ними разница? Каких результатов достигли эсеры убийством человека? Почему, с одной стороны, власти за участие в студенческой забастовке отдают студентов в солдаты, пусть убийца пробыл там не долго и уже через полгода вернулся в Киевский университет, а с другой – почему после столь мягкого наказания этот студент настолько озлобился, что пошел на убийство? И вот этот двадцатилетний студент повешен в Шлиссельбургской крепости, а террор против властей лишь усилился… Император отменил выборы Горького почетным академиком, а слава его лишь еще возросла. Теперь он почти неприкасаемый: стоит лишь до него дотронуться, как поднимется такой трезвон, все колокола оппозиционной прессы зазвонят…