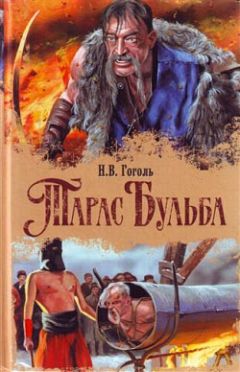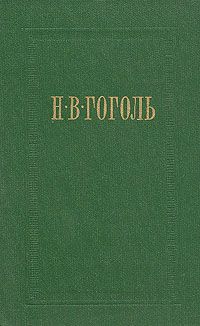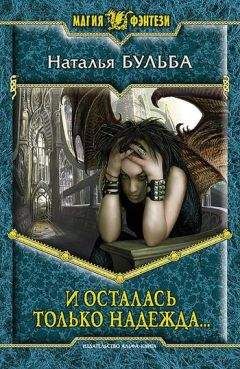Н. Вальден - В польском плену
В этот момент заболел К. Его не стало в три дня. Я крепко держался за него, как за практичного и находчивого человека. Что если бы я «пошел в бега» один? Пропал бы конечно; пропал бы ни за что в первой же хате.
В этой до тошноты, до головокружения зыбкой неопределенности получаю вдруг записку от Марины. Сухой, деловой тон. Ей нужна практика в английском языке. Так как в городе нет ни одного человека, знающего язык, то «папа» разрешил ей заниматься со мной и получил у полковника под свою личную ответственность, разрешение выдачи мне раз в неделю пропуска для посещения города. Лагерь находился верстах в пяти от Вадовиц. Чтение этого письма было, пожалуй, одной из самых счастливых минут в моей жизни. Шутка ли: возможность пойти в город, т. е. первый шаг к освобождению!
Почти на воле
Быстро, весело вышагивал я по нашей госпитальной уличке, несся во весь дух по пыльным, пустынным коридорам главного здания.
— Стой!— вдруг раздалось за поворотом коридора. Блеснула каска.
— Цо-цо-цо есть, — нервничал часовой покалывая меня штыком.
Я, оказывается, добежал уже до канцелярии полковника. Борясь с одышкой, с трудом мог объяснить, что вызван к начальству.
— До капитана — и такой веселый,— все еще не мог успокоиться поляк. И прав был парень: разговор в канцелярии ничего веселого не предвещал. Но не мог же я показать солдату записку от Марины!
— Не пущу, — вдруг решился страж.
Еле-еле уломал его ссылками на какое-то чрезвычайной важности дело.
Часовой постучал себя по лбу: «Рехнулся, мол?»
Я кивнул головой с добродушнейшей улыбкой, совсем как бравый солдат Швейк. Часовой потерял терпение. Он открыл дверь, бросил: «до рапорту и пхнул меня в канцелярию.
Вылощенный офицерик посмотрел мимо меня, повторил дважды фамилию и начал искать распоряжение полковника. Искал он довольно долго.
— Не найдет, не найдет, — досадовал я. А там полковник раздумает. И всегда ведь так, перед самым финишем поскользнусь.
— Есть, — резко сказал офицер. — Пропуск. Иди!
Я вышел из ворот госпиталя, посмотрел на старый серый дом, на заборы и колючую проволоку, державшие меня в своих лапах. И мне стало еще веселее оттого, что я, наконец, видел все это снаружи, с этой «стороны» решетки.
Необычайно ясно помню большую проселочную дорогу, обсаженную вязами. Листва уже начинала распускаться. Солнца не было. Горбом поднималась узкая вымощенная уличка. Она казалась мне такой же нарядной, вымытой и чистенькой, как и все вокруг в грязном городишке на ухабистой дороге. Вот и дом с гербом, с колоннами — дом провинциального небогатого дворянина. Герб занимает чуть ли не половину узенького фасада, колонны — деревянные.
Меня уже вели по витой лестнице в гостиную, в гостиной я нашел Марину, приличия ради, с младшей сестренкой. Сижу в кресле, пью чай с печеньем, слушаю пустую, занимательную болтовню. Как будто у себя в Москве зашел к скучающей соседке.
Чинная девочка с большими недоумевающими глазами скоро вышла. Мы остались вдвоем. Марина внезапно вернула меня к действительности.
— Пусть пан никогда не говорит, что был комиссаром, — сказала она вполголоса. — И оберегайся, пан, капитана Антоненко.
Антоненко!
Вместо ответа я приступил к занятиям: ведь у нас был урок английского языка! Да и за дверью наверное кто-нибудь подслушивает.
И учитель, и ученица были на этот раз невнимательными.
Возвращался я домой, т. е. в госпиталь, в более минорном настроении, из мелочей осмысливая свою встречу с Мариной.
Предостерегла меня от Антоненко... Большая смелость для типичной польской паненки. Как это понять? До каких пределов может идти ее помощь? Как бы не сорваться, потребовав слишком многого.
Мне пришлось еще несколько раз побывать у моей ученицы. Странная мы были пара. Я не мог рассказывать ей о моем прошлом, о работе. Она отмалчивалась о себе. Мы сошлись где-то на крутой тропинке и шли рядом, говоря о пустяках. Гнали от себя мысли о разных дорогах, которые свели нас. Ведь они снова разойдутся.
Прекрасная полька и Андрий — сын Тараса Бульбы, пробравшийся на свидание в осажденный город...
«Знаю, — говорила она, тихо качая прекрасной головой своей... — и знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня. Знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут товарищи, отчизна, а мы враги тебе».
Повторяю, мы не вели, нам нельзя было вести принципиальных разговоров. Но в каждом слове, в каждом движении трепетало нечто большее, невысказанное...
В одну из наших встреч Марина показалась мне бледнее обычного.
— Вот и кончились ваши мучения,— тихо сказала она. — Полковник готовит отправку эшелона в Домбиэ — лагерь под Краковом, оттуда вас отправят домой...
Эта новость потрясла меня. Я молчал, не будучи в силах собраться с мыслями.
— Домой... домой.
Моя ученица вдруг отодвинулась далеко в сторону, — ее заслонило иное, огромное: в воображении стали вырисовываться образы давнего, полузаслоненного ужасами плена советского прошлого, — армия, товарищи, доклады и выступления.
Марина все больше уходила в себя.
— Панна Марина, — сказал я с бледной, идиотски виноватой улыбкой, — приезжайте к нам...
— Спасибо, — отвечала она резче обычного. — Только вряд ли удастся.
Я встал, пожал ее холодную ручку, поднес к губам. Мы больше не виделись.
Прощай, Марина!..
Отъезд из Вадовиц в Домбиэ
Не помню, как нас «упаковали» в вагоны, как довезли до Домбиэ. Один момент стоит в памяти. Дочка еврейского богатея принесла мне на прощанье хлеба. Что ж, спасибо и на этом! Еще денщик пана Верачка передал записку от Марины с просьбой не вскрывать до отхода поезда.
Тепло, ласково прощалась со мной Марина — по-хорошему, по-товарищески, просила принять от нее на дорогу пять долларов. Она просила прощенья за маленькую «уловку», «не вскрывать до отхода поезда»,— иначе ведь я не принял бы.
Молодец. Марина!
В большом лагере Домбиэ, целом городе с десятками бараков различных наименований и назначений, мы провели три—четыре недели. О жизни в Домбиэ пусть пишет тот, кто прожил там долгие месяцы.
Перед отъездом нас кормили лучше. Мы впрочем, в этом не так нуждались. В лагере была налажена связь с организацией, получалась небольшая денежная помощь, доставлялись припасы.
Зато поляки удвоили моральные пытки, обогатив свой и так обильно снабженный арсенал новым орудием. За малейший проступок вычеркивали из очередного списка на отправку. При полной неопределенности и неизвестности о порядке составления списков и о сроках отправления поездов эти милые шутки отчаянно били по нервам. Особенно свирепо нас обыскивали и при поступлении в лагерь, и после. Искали денег, литературы. Пять долларов Марины один мой приятель запрятал в каблук, устроив там какой-то хитрый тайничок. Я торжествовал, но, когда перед самой отправкой заглянул в свой сейф, там ничего не оказалось. Трюк был настолько известен, что кто-то из соседей легко воспользовался деньгами. Мне жаль было бумажку, — это была последняя память о Марине. Записку я разорвал сейчас же по прочтении.