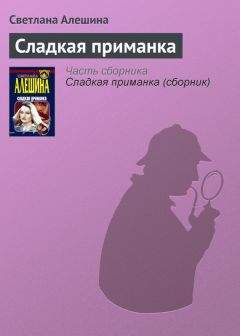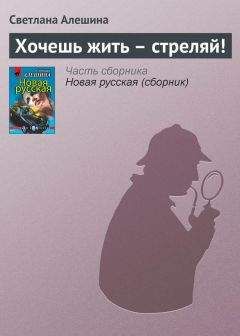Николай Богословский - Чернышевский
Совсем не по возрасту были серьезны тогда запросы Чернышевского. Читая проникнутую глубоким патриотическим чувством поэму А. Майкова «Две судьбы», он стремится вместе с поэтом понять причины умственной закоснелости тогдашнего общества.
И не зажгла наука в вас собой
Сознания и доблестей гражданства…
Строки эти вызывают у него пылкие, искреннейшие, пророческие мысли о своем призвании, о будущем родины.
Многим памятна отроческая клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах.[5]
Рядом с Чернышевским в то время еще не было такого друга, сердце которого билось бы в унисон с его сердцем. Взволнованный мыслями, вызванными чтением «Двух судеб», он пишет двоюродному брату письмо, которое звучит как клятва: «Решимся твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей… Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира… выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества… на великом поприще жизни – науке… И да совершится чрез нас хоть частию это великое событие!.. Содействовать славе не преходящей, а вечной, своего отечества и благу человечества, – что может быть выше и вожделеннее этого?»
Такова была уже в ту пору сила патриотического чувства Чернышевского. Мы помним, что своего семинарского друга Михаила Левицкого он считал человеком способным в иных условиях стать гордостью России. Не столь уж важно, преувеличенно ли это мнение, – гораздо важнее то, что оно обнаруживало желание юноши видеть и себя и своих друзей людьми, поддерживающими честь родины.
С таким ощущением, с такими мыслями вступил Чернышевский в университет, и ему казалось, что он встретит здесь немало достойных людей.
Верный «духу студенческого сословия», он радовался успеху каждого товарища, если даже тот не был знаком ему лично.
Вот о студенте Л. Плещееве пишут в «Отечественных записках» как об одном из лучших поэтов современности. Чернышевскому «вдвойне приятно» сообщить об этом родным – словно бы слава Плещеева коснулась его самого.
В это время начали у него устанавливаться очень близкие отношения с вольнослушателем университета Михаилом Ларионовичем Михайловым, впоследствии видным поэтом и революционером.
Познакомились они на первой же лекции и сошлись очень скоро, но более тесному сближению сначала несколько препятствовало заметное различие их характеров.
Насколько Чернышевский был замкнут, сдержан, осторожен в проявлении чувств, настолько Михайлов был открыто эмоционален, изменчив в настроениях. В его натуре, говорит ближайший друг Михайлова Шелгунов, «было слишком много нервности чисто женской, его легко было огорчить и вызвать на Глазах слезы, но огорчения его обыкновенно сменялись веселым настроением».
Различие проявлялось и во внешнем поведении. Один был неловок, угловат. В манерах и движениях другого бросалось в глаза природное изящество, внутренняя грация, то сильно развитое «чувство формы», о котором говорит Шелгунов.
Михайлов получил хорошее домашнее образование, но экзаменов в университет не выдержал, потому что плохо подготовился к ним, всецело поглощенный литературной деятельностью. Ему пришлось поступить в университет вольнослушателем.
На первой же лекции Михайлов обратил внимание на близорукого бледного студента в сереньком форменном сюртуке.
– Вы, вероятно, второгодник? – обратился Михайлов к студенту.
– Нет, а вы, должно быть, судите об этом по сюртуку?
– Да.
– Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке, – отвечал Чернышевский, и между ними завязалось знакомство.
Под впечатлением встреч с Михайловым Чернышевский писал отцу, что он никак не думал встретить здесь таких даровитых и знающих людей.
В семинарии Чернышевский привык быть преимущественно полезным для других. Теперь дружба могла принести пользу и ему. В лице Михайлова он встретил редкого знатока мировой литературы. Недаром его называли «ходячей библиографией». Кроме восточных, древнегреческих и латинских поэтов, он знал всех видных английских, немецких, французских писателей.
Михайлов уже изведал первые, приятно кружащие голову успехи на литературном поприще. Он печатал в «Иллюстрации» свои оригинальные и переводные стихотворения, статьи, заметки.
Несомненно, что уже в раннюю пору знакомства Чернышевского с Михайловым их сближала общность социальных взглядов, присущая им обоим ненависть к угнетателям родного народа.
Михайлов несколько раньше Чернышевского освободился от религиозных предрассудков. В одной из первых книг о Михаиле Ларионовиче, вышедшей вскоре после его смерти, говорится:
«Юношеский жар своей души, требовавшей фанатических привязанностей и страстной любви, он перенес на дело свободы и мысли. Чернышевский впоследствии всегда говорил, что первый толчок на пути к развитию был дан ему Михайловым.
Со своей стороны Михайлов, развившийся в те времена, когда положение России казалось вполне безвыходным, безотрадным, тем склоннее был к несколько апатическому отчаянию, чем сильнее любил свою родину, чем яснее понимал свои обязанности как человека и гражданина, В этом отношении влияние гениальной энергии Чернышевского было для него спасительною поддержкою».
Революционные убеждения Михайлова складывались, вероятно, под непосредственным впечатлением рассказов в семье о трагической участи его деда Михаила Максимовича, который был крепостным симбирской и оренбургской помещицы Надежды Ивановны Куроедовой, изображенной в «Семейной хронике» С.Т. Аксакова под именем Прасковьи Ивановны Багровой.
После смерти Куроедовой Михаил Максимович был отпущен на волю, но вольная не была соответствующим образом оформлена, Воспользовавшись этим, наследники Курседовой снова его закрепостили. Михаил Максимович протестовал; тогда его заключили в острог, судили и засекли до смерти за неповиновение помещичьей власти. Отец Михайлова (начальник Илецких заводов), умирая, говорил Михаилу Ларионовичу, «чтоб он помнил историю своею деда, никогда не делался барином и стоял за крестьян».
Чернышевский сразу понял, что Михайлова ждет большое будущее, что из него выйдет человек замечательный. Это знакомство способствовало расширению кругозора Чернышевского. Они стали бывать друг у друга чуть ли не ежедневно, вместе читали «Отечественные записки», «Современник», толковали по целым вечерам напролет о литературе, о политике, об университете. Но и по прошествии нескольких месяцев Чернышевский оговаривался, что «еще не так дружен с ним, чтобы говорить от души о том, что лежит на сердце». «Мы очень часто бываем друг у друга… он со много откровенен, очень откровенен, но у него уж такой характер, не то, что у меня. Впрочем, и я с ним гораздо более откровенен, нежели с другими. Не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце. Но все я еще не столько знаю его, чтобы совершенно сказать, что считаю себя его другом… Чем больше я стал узнавать его, тем более стал любить, хотя и не скажу, чтобы все в нем мне нравилось. Но все же я его более всех других люблю…»