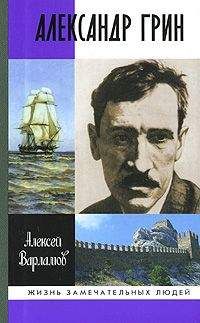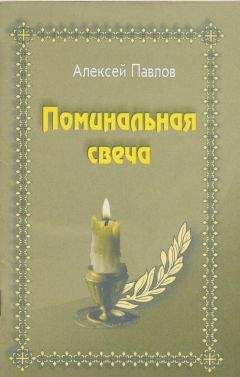Алексей Варламов - Пришвин
Трость не потребовалась, а вот ученика гимназический совет не просто исключил, но с волчьим билетом, без права поступления в другие учебные заведения этого типа, и таким образом поставил крест на пришвинской судьбе и на долгие годы поселил в нем чувство неуверенности в себе.
Мог ли Розанов поступить иначе? Ведь должен был он, умный, глубокий и проницательный человек, понимать, как жестоко поступает по отношению к задиристому и явно незаурядному мальчику, тем более что и сам он, по собственному признанию, в гимназические годы «всегда был „коноводом“ (против начальства, учителей, особенно против директора)»,[61] плохо учился, оставался на второй год, и его, маленького, терроризировал директор симбирской гимназии по прозвищу Сивый.
Отвечая на этот заданный или только подразумеваемый вопрос, Розанов говорил Пришвину во время их петербургской встречи два десятка лет спустя:
«– …Я не мог иначе поступить: или вы, или я. Я посоветовался с Кедринским, он сказал: напишите докладную записку. Я написал. Вас убрали в 24 часа. Это был единственный случай…
– А с Бекреневым? – хотелось спросить.
Он рассказывает, как плохо ему жилось учителем гимназии. Теперь вот учат, а тогда… Место покупалось у попечителя… Розанов мечтатель, а тут нужно было что-то делать до того определенное… Казалось, что с ума схожу… И сошел бы… Я защищался эгоистично от жизни… В результате меня не любили ни ученики, ни учителя…»[62]
В пришвинском изложении этот лепет выглядит довольно жалким и неубедительным, что Розанову было несвойственно совершенно (этот человек мог убедить кого угодно в чем угодно и ни перед кем не тушевался), а вот о том, насколько его не любили и как мучили, рассказывает в своих воспоминаниях учитель елецкой гимназии Павел Дмитриевич Первов, в соавторстве с которым Розанов переводил «Мысли» Б. Паскаля и первые пять книг «Метафизики» Аристотеля и о котором Пришвин с благодарностью много лет спустя написал:
«30 октября. Пятница. И хлещет дождем, и крутит, и мутит, хуже некуда. Остается только надежда на себя, что мое утреннее писание будет освещать мое внутреннее солнце.
Вспомнился отличный учитель древних языков Первов, как он однажды осенью в классе, мельком взглянув на мутное окно, сказал: «Мы, люди, должны быть независимы в своих делах от погоды». Тогда это было непонятно, но береглось в себе около семидесяти лет, а теперь я тем и живу, что навстречу непогоде за окном вызываю из себя солнце».[63]
Приведу лишь один эпизод из воспоминаний Первова о Розанове, характеризующий учительские нравы той благословенной поры:
«Раз он попал на холостую попойку учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким (учитель гимназии, где преподавал Розанов. – А. В.), который «на все корки» честил философию и философов, крича с азартом: «И мы тоже кое-что понимаем!» В разгар спора Десницкий схватил с полки книгу «О понимании», преподнесенную Розановым Желудкову, положил ее на пол, расстегнул брюки и обмочил ее, при общем хохоте всех присутствующих повторяя: «А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит»».[64]
Легко догадаться, что испытывал этот раздражительный человек, сталкиваясь с хамством своего ученика. И ведь не с простым хамством, а с некой философией, когда нерадивый гимназист имел наглость рассуждать, апеллировал к учителю, возмущал его и насмехался. Можно понять Розанова, но следует понять и Пришвина. И не судить ни того ни другого.
В дальнейшем к этой ситуации и сам Пришвин относился более взвешенно: «Розанов был сам нежный тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым».[65]
Но многие годы обида оставалась очень горяча.
В 1922 году Пришвин писал об этом эпизоде Ященке: «Нанес он мне этим исключением рану такую, что носил я ее не зажитой и не зашитой до тех пор, пока Василий Васильевич, прочитав мою одну книгу, признал во мне талант и при многих свидетелях каялся и просил у меня прощения („Впрочем, – сказал, – это Вам, голубчик Пришвин, на пользу пошло“)».[66]
Впрочем, с пользой не все так просто… Пришвин принадлежал к той породе людей, кто исключительно тяжело переживает душевные скорби, и эта рана оставила след в его душе на всю жизнь, подобно тому как ранила его через несколько лет неудавшаяся любовная история. Два этих горьких события определили будущую судьбу писателя, и на протяжении всей жизни Пришвин не раз возвращался к этому эпизоду.
«Из моей жизни. Преодоление неудач. В связи с чтением „Кащеевой цепи“ мне вспомнилось (и как жаль, что я это не вспомнил, когда писал „Кащееву цепь“). Мне вспомнилось, что когда после исключения меня из Елецкой гимназии Розановым Алеша Смирнов прислал мне сочувственное письмо с обвинением во всем Розанова (все были против исключения, он один), я ответил ему: „Дорогой Алеша, не вини Розанова – я сам во всем виноват. Я даже хотел было застрелиться, и револьвер есть, но подумал и оказалось, я сам виноват, так почему же стреляться – и вот не стал“.
Что-то в этом роде написал, а умный Алеша письмо снес в гимназию, а из гимназии оно попало к матери и Дунечке, и вот почему все стали ухаживать за мной, как за больным и хорошим мальчиком».[67]
В 1944 году Пришвин записал уже по поводу своего романа: «Вспомнил, как я несправедливо выступил в „Кащеевой цепи“ против учителей елецкой гимназии. Нужно было пройти таким 60-ти годам, чтобы учителя были поняты мною как хорошие учителя»,[68] а еще через семь лет: «В моем личном жизненном опыте я был врагом своих учителей в школе, я же потом и стал на их сторону против себя»,[69] и как разрешение всей этой ситуации:
«Меня выгоняли из школы, потому что я был не способен к ученью и непослушен. А теперь в каждой школе по хрестоматиям учат детей моим словам, меня теперь все знают и многие любят.
Почему это случилось? потому что я боролся за себя, или что меня выгоняли? Было и то и другое: я должен был по натуре своей бороться, они должны были меня выгонять.
Им хотелось сделать из меня хорошего мальчика, я хотел найти свой путь к хорошему».[70]
Много лет спустя участники провинциальной драмы времен царствования императора Александра III встретились в столице империи, на заседании Религиозно-философского общества, и Пришвин сполна познал вкус победы.
«Встретились два господина, одному 54 года, другому 36, два писателя, один в славе, сходящий (чудесный в своем простодушном и юношеском литературном эгоизме эпитет, особенно если учесть, что Розановым еще не написаны лучшие, главные его книги. – А. В.), другой робко начинающий. 20 лет тому назад один сидел на кафедре учителя географии, другой стоял возле доски и не хотел отвечать урока… (…) Мой фантастический полет… Я говорил три часа подряд. Меня слушали, переспрашивали… Когда я сказал о том, сколько потеряло человечество, меня кочевой образ жизни на оседлый, Роз<анов> сказал: это Ницше, Ницше… (…)