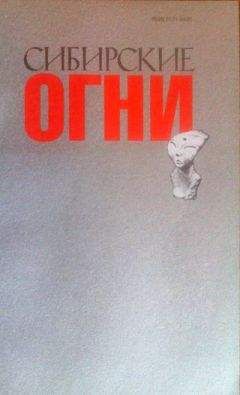Наталия Вулих - Овидий
Однако эта свобода, как доказала судьба самого поэта, была временной и эфемерной, хотя именно она вдохновила замечательную поэму «Метаморфозы», замысел которой созревал постепенно; в том числе и в любовных элегиях, далеко не всегда шутливых и легкомысленных. Ведь среди элегий есть уже и такие, где любовь окружается ореолом высокого избранного чувства, приобщающего влюбленного к богам, как в «Метаморфозах». Это прежде всего, конечно, знаменитая сульмонская элегия (II, 16). Она начинается описанием живописной природы родного края, где поэт мог бы стать счастлив, если бы не разлука с Коринной.
Пламя мое далеко, ошибся я словом, простите,
Той, что мой пламень зажгла, нет здесь, но пламя горит.
Без нее даже родина представляется пустыней, скифской землей, скалами, на которых был распят Прометей:
Кажется мне, что кругом не пелигнов целебные долы.
Нет! Не родная земля здесь окружает меня:
Скифия, край киликийцев и северных бледных британцев.
Скалы жестокие, где кровь проливал Прометей.
…
Если бы даже на небо меня вознести обещали,
С Поллуксом место делить я без тебя бы не смог.
Выше любви-дружбы Кастора и Поллукса, по античным представлениям, не было ничего. Кастор был сыном смертного, а Поллукс — Юпитера. Когда Кастор погиб, то Юпитер разрешил Поллуксу один день проводить на небе, другой — в подземном мире, Овидий же готов пожертвовать ради любви даже блаженством Поллукса.
Мне показался бы в Альпах, где дуют суровые ветры,
Только б с тобою мне быть, легким томительный путь.
Вместе с тобой я б прорвался сквозь Сирты Ливийские, вместе
Не побоялись бы мы Ноту доверить корабль.
Не испугался бы я собак твоих лающих, Сцилла.
Не устрашил бы меня грозной Малеи залив.
Но даже если корабль будет разбит, влюбленные и тогда спасутся от гибели:
Только рукой белоснежной меня обними, и тотчас же
Станет плыть нам легко в бурной пучине морей.
Взаимная любовь возвышает и облагораживает, а в «Метаморфозах» даже дарует бессмертие. Сульмонская элегия предвосхищает чарующее письмо Леандра Геро в сборнике посланий героинь, Леандра, этого храбреца, рисковавшего жизнью каждую ночь ради любви. Таким образом великие открытия в области человеческих чувств Овидий делает уже в любовных элегиях, доказывая значительность самой темы, выбранной им еще в юности.
Не менее глубока и элегия на смерть Тибулла — поэта, умершего в 19 г. до н.э. в возрасте тридцати пяти лет. Опираясь на традиции античной эпитафии, Овидий рисует полную динамики сцену оплакивания Тибулла богиней Элегией, Амуром и Венерой. Из числа обыкновенных смертных Тибулла выделяет его высокое дарование, поднимающее его к миру богов. Но трагедия состоит в том, что и великое, как и все на свете, не может избежать гибели.
Нас называют, любимцы богов, святые поэты.
Верят, что в нашей груди пламень священный горит.
Верят, но смерть налагает на все свои черные руки.
Нет святынь для нее. Все оскверняет она.
Погиб Орфей, хотя и был сыном Аполлона и мог укрощать своей песней даже львов и тигров, погиб и величайший из поэтов Гомер. Бессмертны только создания гениев, образы, вылепленные ими:
В песнях жива ты, троянская слава и труд Пенелопы.
Днем она ткет, по ночам ткань распускает свою.
Века переживут и воспетые Тибуллом Делия и Немезида. Сам он не сомневался, что попадет в места блаженных — в Елисейские поля (Тибулл, I, 3), но Овидий уже не верит в гомеровское представление о тенях умерших; очень может быть, что он задумывается уже в это время над пифагорейской теорией переселения душ, столь важной для «Метаморфоз». Согласно Пифагору, умерший теряет свой внешний облик, но его бессмертная душа, его внутренняя суть перевоплощается в другие существа. Значит, во время создания любовных элегий и великие вопросы бытия, проблемы жизни и смерти, поиски бессмертия уже глубоко волновали поэта.
Если не имя одно и не тень от нас остается,
То в Елисейских полях будет Тибулл обитать.
Ты навстречу ему, плющом виски окруживши,
Вместе с Кальвом твоим выйди, ученый Катулл.7
…
Тень твоя будет средь них, коль только тенью ты будешь.
Ты увеличишь число чистых и праведным душ.
Пусть же покоится мирно твой прах в этой маленькой урне
И да будет земля легкой, Тибулл, для тебя!
Сам Овидий был уверен, что и его любовные элегии переживут века и донесут до потомков живую душу их создателя, его суть, его «индивидуальность»: ведь и юмор, и шутка — это тоже грани бессмертного существа, проявления его гения.
Дорога, выбранная им, была опасной, и сам кружок Мессалы Корвина не был любезен сильным мира сего. Поэзией, правда, интересовались тогда многие. Гораций свидетельствует о множестве дилетантов в то время, каждый готов был считать себя поэтом, сам Мессала (Валерий Мессала Корвин), бывший полководец, командовавший кавалерией Брута (убийцы Цезаря), ставший затем, правда, префектом Рима и прославившийся ораторским искусством, писал буколические стихи, далекие от политики. Иногда в его кружке появлялся любимый Августом Вергилий, стеснительный, не любивший толпы и славы, сам Гораций посещал рецитации, его портрет сохранился на одном из кубков эпохи Августа. Невысокий, круглолицый, по-настоящему образованный, он поражал слушателей своими искусными одами, написанными разнообразными метрическими размерами. Но именно в этом кружке молодежь увлекалась любовной поэзией и восхищалась прежде всего Овидием. Однако наиболее близок Августу и его официальной идеологии был кружок Гая Цильния Мецената — знатного и богатого, не занимавшегося политической деятельностью, но исполнявшего иногда ответственные дипломатические поручения императора. Он стремился направлять поэтическую деятельность объединившихся вокруг него поэтов в русло, угодное Августу, с его увлечением стилем классицизма и культом древности. Сам Меценат писал безвкусные, претенциозные стихотворения, вызывавшие насмешки даже самого императора. Роскошно одевавшийся, любивший драгоценности, живший в грандиозном дворце на Эсквилине, он построил специальную «аудиторию» для поэтических рецитаций, ее развалины сохранились до сих пор. Здесь стояли удобные стулья для приглашенных и скамьи для более скромных слушателей. Стены были украшены изысканной живописью. В этой «аудитории» Овидий не выступал никогда. Его элегии были рассчитаны не на любителей классицизма и не на приверженцев официальной идеологии.