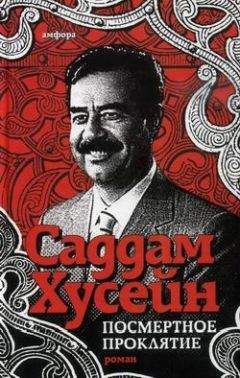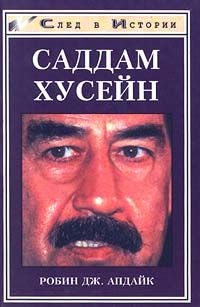Михаил Хейфец - Почему Жаботинский не стал еврейским вождём
Да, наш герой видел, что еврейские массы и сионистские активисты хотят, чтобы ими управляла, как сегодня выражаются, «суверенная демократия». Де-факто — чтобы управлял своего рода диктатор. Что делать — это действительно было народное чувство, вековая привычка. И молодые, талантливые и мужественные последователи требовали, чтобы Жаботинскому предоставили в партии всю полноту власти — чтобы его объявили официально диктатором! Тогда-то, видимо, в мозгу Бен-Гуриона и созрела метафора «Владимир Гитлер»… Но сам «кандидат» ответил любимцам так: «Идея диктатуры не годится с самого начала, хотя бы потому, что диктатора тут не видно. Кандидат, которого имеют в виду…, объяснил им, что этот путь ему не по силам и не по вкусу. Однако проблема эта значительно глубже. В современном мире, а особенно среди молодёжи мечта о диктаторе стала эпидемической. Я пользуюсь случаем ещё раз заявить, что я — беспощадный враг этой мечты. Я верю в идеологическое наследие XIX века, века Гарибальди и Линкольна, Гладстона и Гюго… Сегодня идеологическая мода такова: человек по самой его сути нечестен и глуп, поэтому ему нельзя дать право управлять собой. Свобода ведёт к гибели, равенство — ложь, общество нуждается в вождях, в порядке и в палке… Я не хочу веры такого рода. Лучше вовсе не жить, чем жить при такой системе» (II, 278).
Да, он прожил жизнь человеком Модерна и подвергал всё сомнению, включая и собственную способность к руководству. И всегда готов был откликнуться по-новому на новую ситуацию, на новую информацию и сменить прежнюю «установку», если она, как выяснялось, не годилась в неожиданных обстоятельствах, сменить на нечто, иногда прямо противоположное. Какая уж тут диктатура? Он физически неспособен был стать вождём, как Сталин, как Гитлер, Муссолини или Франко… Он вечно был готов к эксперименту, к новому толкованию старых гипотез (и потому, к слову, он полюбил в Польше Пилсудского, а в Америке — внимательно наблюдал за Рузвельтом): «Политические вожди… Урожай гениев на этом поле возрос в огромном количестве. Одна за другой нации и страны заражаются этой злокачественной болезнью, открывают божественных избранников — вождей, на челе которых запечатлена печать императоров. И неизбежно, когда эта печать «вождизма» распространяется, как чума, избранники должны оказаться очень мелкого пошиба. Усталость — вот корень всех этих явлений, отталкивающих нас, «стариков»… Усталость раздавила культ свободы, она источник равнодушия личности к собственным мнениям, источник любви к дисциплине, почти чувственного желания жить… комфортабельно — под режимом, установленным другой личностью» (II, 451).
И далее говорит о проблеме общин Европы в XX веке: «между режимом дисциплины, между казармами, которыми управляет государство, и буржуазным режимом… основанным на либерализме и праве собственности… Вопрос один: способен ли этот режим принять и впитать новые противоядия (коллективные договора, страхование безработицы, большой налог на наследство) и дойти до того, чтобы ликвидировать бедность — сохраняя свой характер и оставаясь… режимом «честной игры. История с нами, и, несмотря на интерлюдии полицейских государств, будущее будет таким, каким мы хотим, чтоб оно было» (там же).
Откуда взялась столь оптимистически-патетическая уверенность? От веры в инициативу, которая изначально заложена в душу человека и вынуждает его, даже помимо воли, менять жизнь в направлении к большей свободе. Он называл это свойство человека очень странным термином — «авантюризмом». Для его товарищей «авантюризм» стал своего рода гимном!
«Серьёзные люди верят, что их метод — расчет, спокойствие, всё, как у «государственных людей», и имеет шансы на успех. Но что подсказывает нам опыт? Опыт — бессовестный плут, он смеётся над «расчётами как у государственных людей» столь же часто, как над легкомыслием авантюристов… Мы помним время, когда все серьёзные люди называли Герцля авантюристом, а задолго до Герцля — других: Гарибальди, Вашингтона, Колумба… Очень трудно определить, где кончается "государственный расчёт" и начинается авантюризм. Мыслитель (но не дурак!) сказал об этом: каждое начало считают авантюрой — до той минуты, когда приходит успех»…
Он верил в инициативу неповиновения злу, инициативу бессильную и малую, но неизбежно сокрушающую ограды несвободы. Стоит ли удивляться, что такой человек не захотел стать диктатором — даже когда «управляемые» сами предлагали ему пост вполне официально.
* * *Так почему же Жаботинский не стал вождём еврейского народа и эту роль история отдала Бен-Гуриону — возвращаемся мы к вопросу, вынесенному в заголовок статьи.
Шмуэль Кац нашёл ответ в рассуждениях польского министра иностранных дел графа Михаила Любенского, знавшего сионистских лидеров, так сказать, по должности. Он сказал активисту-еврею (Шехтману): «Вы знаете, как высоко я почитаю Жаботинского. Я также очень высокого мнения о докторе Вейцмане. Но, по-моему, у доктора Вейцмана больше шансов заручиться поддержкой большинства еврейского народа, потому что его ментальность сродни ментальности среднего еврея в гетто. А ментальность Жаботинского духовно ближе к моей, к ментальности нееврея. Я лучше понимаю Жаботинского, он будит во мне родственный отклик. А для еврея из гетто он, напротив, слишком прост и прям. Его выслушают, ему поаплодируют, но за ним пойдут только те, кто преодолел комплекс гетто» (II, 595).
Неслучайно, видимо, с юных лет Владимира-Зеэва дразнили «гойише коп» («нееврейской головой)…
Примечания
1
Шмуэль Кац «Одинокий волк. Жизнь Жаботинского». «Иврус», 2000.