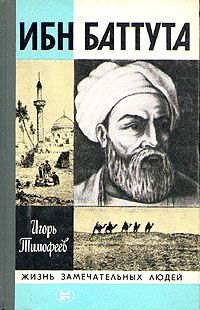Иван Хомич - Мы вернулись
- Ну, разумеется, только русских. Запад для вас...
- Нет, почему же, - спокойно возразили из толпы.- Читали мы и Шекспира, и Гете, и Диккенса, Ибсена, Драйзера и других больших писателей...
Румыны, видя, что "беседы по душам" не получалось, заторопились увести своих одряхлевших "агитаторов".
Больше белогвардейцы, ко всеобщему удовольствию, не приходили. Не до бесед о графе Витте было нам сейчас. Мы ломали головы над тем, как организовать побег, как увести людей. В камеру попадали новые заключенные, иногда, как свежий ветер, доносились слухи о партизанах, успешно действующих в немецком тылу.
В камере же услышали мы рассказ о том, как гитлеровцы уничтожают минные поля в Севастополе. Рассказывал раненый техник:
- В Севастополе из пленных немцы организовали команды "разградителей". Мы думали, дадут щупы, но вместо щупов нам дали простые палки и повели на минные поля. Все мы были построены в один ряд, с интервалом в один метр. За нашей шеренгой шли на расстоянии ста пятидесяти метров немецкие автоматчики, кто из нас отставал, того стреляли.
Когда рвались мины, многие гибли, другие бросались назад, но немцы их встречали огнем из автоматов. Я три раза участвовал в разграждении. Каким-то чудом уцелел, получил только ранение в левую ногу и правую руку. Тяжелораненых фашисты добивали на поле. Я притворился мертвым, а когда эсэсовцы прошли, пополз к шоссейной дороге. Там меня подобрали и направили в лазарет военнопленных. Вместе со мной уцелело еще несколько раненых. А что с остальными, не знаю.
В симферопольской же тюрьме встретил я полковника Скутельника.
Мы познакомились с ним еще весной, когда я по заданию штарма проверял оборону и боеготовность стрелковой дивизии, которой он командовал.
Надо сказать, что до войны Скутельник более двадцати пяти лет служил в кавалерийских частях, был хорошим рубакой, грудь его украшали два или три ордена Красного Знамени.
В войну он получил почетное назначение - командовать пехотной дивизией. Однако старой службы полковник забыть не мог и любил говаривать:
- То ли дело - кавалерия! Все там знакомо, все родное. Истинному кавалеристу конский пот и то приятен.
Числа шестого или седьмого июля, когда мы уже сидели под кручей, я увидел двух пробиравшихся по камням командиров. Молодой лейтенант вел за руку невысокого коренастого человека с наглухо забинтованной головой и руками. Когда они пробрались к нашему гроту, я узнал в раненом Скутельника. Разговаривать он не мог. Мне рассказали, что полковник обгорел при взрыве на 35-й морской батарее.
Когда Скутельник был взят в плен, его направили в лазарет военнопленных, а едва он немного оправился - в тюрьму. Седой, измученный ожогами, он мечтал как бы уйти:
- Эх, и зашумели бы Крымские горы! Не одна бы башка фашистская слетела, как кочан!
Тюрьму скоро начали разгружать, и, к сожалению, судьба нас развела. Человек это был отважный и находчивый. Так и не знаю, удалось ли товарищу Скутельнику поработать в тылу врага острой шашкой.
Надо сказать, что, угодив в симферопольскую камеру, я сразу заболел. Вдобавок к общему для всех истощению меня свалила с ног дизентерия. Полковник Васильев, находившийся рядом, и другие севастопольцы ухаживали за мной как могли, но "могли" они в этих условиях, конечно, мало.
Достаточно было на самого Васильева поглядеть, чтоб понять - положение наше скверное. Два месяца тяжелейшего недоедания, можно сказать голода, сами по себе не могли пройти бесследно. По тюремному дворику, под ласковым крымским небом, бродили теперь прямо-таки тени, с землистыми лицами и неприятно блестящими от голода глазами. Одежда на всех - как с чужого плеча. И бродят, бродят из конца в конец, от забора к забору, где каждая щербина, каждая дырочка от выпавшего сучка запомнилась уже на всю жизнь.
Смешно сказать, а я вот тогда впервые не мозгом, а сердцем понял львов и тигров, которые бродят по своим клеткам в зоопарке из угла в угол. Только на них часовые не рычат...
С нами находился раненный в ногу подполковник Владимир Мукинин. Ему было, пожалуй, потяжелее, чем всем нам. Ведь в этой же тюрьме томилась и его жена. Случилось это так.
Когда Владимир Мукинин ушел на фронт в первые месяцы войны, жена его Мария немедля поступила на курсы медсестер. Под Одессой Мукинин был ранен. В письме, полученном Марией, говорилось, что рана не опасна.
- Ну да, ведь знаете, если ранен близкий человек,- и царапина опасна, рассказывала мне Мария, когда мы с ней познакомились уже под Севастополем. Мне, конечно, всякие страхи казались. Бывало, как ненормальная, повторяю вслух: "Пусть бы жив! Пусть бы жив!" Меня в это время чуть под подозрение не взяли. Я повадилась каждый день в порт ходить. Все транспорта ждала. Лейтенант из новороссийского контрольного пункта остановил меня однажды: "Что это вы, гражданка, каждый день порт посещаете?" Ну, я объяснила, что муж ранен и я транспорта из Одессы жду...
Скоро действительно пароход привез раненых из Одессы. Рана Мукинина оказалась неопасной, и, пока он находился в госпитале рядом, Мария чувствовала себя счастливой, несмотря на зверские бомбежки, каким немцы подвергали Новороссийск.
Женщина она была упорная и мужа любила крепко. Словом, когда в конце декабря 1941 года в Севастополь прибыл начальник артиллерии дивизии подполковник Мукинин, с ним приехала и санинструктор Мария Мукинина, его жена.
Помню, командир дивизии, крайне неодобрительно посмотрев на чету Мукининых, сказал:
- Здесь теперь не курорт, а война. Куда мы вашу жену денем?
Мукинин ответил очень спокойно:
- Может работать медсестрой.
Марию Ивановну зачислили медсестрой в медсанбат, и стала она работать. В тех условиях работникам медсанбата приходилось частенько и первую помощь оказывать, и раненых с поля боя выносить, и за операционным столом, и в перевязочной работать по 18 - 20 часов в сутки. Даже мужчины бывало удивлялись выносливости и выдержке этой худенькой черноглазой женщины.
Володю своего она не видела по целым неделям. Помню, я случайно встретил ее на передовой. Мороз, а ей жарко, видно, что устала. Шапка солдатская тяжела, сползает на затылок, лоб в поту.
- Ну, что, Мария Ивановна, страшно?
В тяжелых условиях, когда бой идет, сочувствие человеку надо с большой осторожностью высказывать, некоторые от участливых слов подобранность теряют, расклеиваются. Я это много раз замечал.
Я посочувствовал Марии Ивановне, а про себя забеспокоился: не зря ли? Пожалуй, разумная деловитость более уместна.
А Мария Ивановна шапку еще больше на затылок сдвинула, головой покачала, вздохнула глубоко-глубоко:
- Страшно, Иван Федорович! Сил нет как страшно. Ей-богу, в свободную минуту даже плачу. Все кажется, что в Володю обязательно попадет.