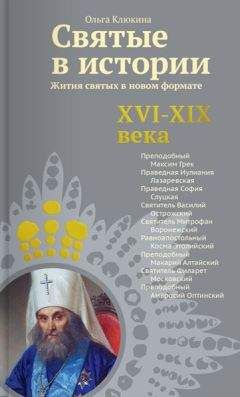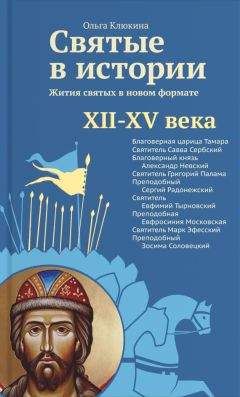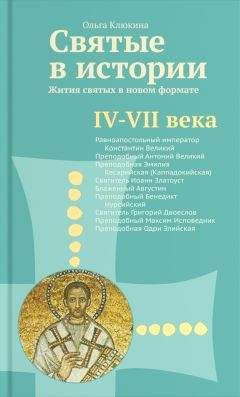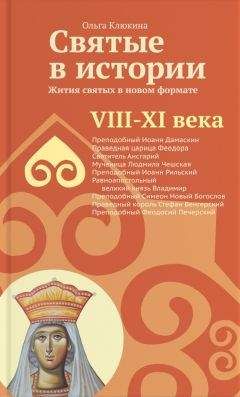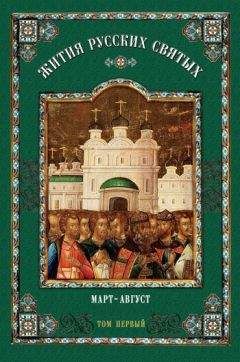Владислав Корякин - Семь экспедиций на Шпицберген
Это первый реальный шаг в полевых исследованиях к разгадке тиррелловской «головоломки оледенения Шпицбергена» со времени ее возникновения.
Как мы и ожидали, осадки в виде снега поступают здесь с Баренцева моря, причем его количество уменьшается к центру острова. Кажется, мы были первыми, кто пришел к мысли связать разгадку тиррелловской «головоломки» с поступлением осадков со стороны Баренцева моря. Полевые наблюдения подтвердили наше предположение.
Ну и местечко досталось нам!.. Серые и красноватые гранитные скалы с выветренной рыхлой корой, обильно поросшие черными и красными лишайниками. Поскольку работали мы в «ночное» (по привычному для нас ритму жизни в условиях полярного дня) время, то нунатаки, где мы расположились, против солнца, с темной, неосвещенной стороны, выглядели мрачно — свирепыми, дьявольски неуютными.
На ледник мы спускались по огромной снежной косе — еще один признак преобладания восточных ветров в этой части Шпицбергена.
Непрекращающийся ветер, завывавший в скалах, нещадно трепал нашу палатку.
Быстро выставили створ для наблюдении за движением льда.
Теплеет, однако это создаст новые трудности. Снежные мосты подтаяли, ослабли, и я, не сумев остеречься, провалился в трещину. К счастью, все обошлось...
В горах на побережье совсем мало снега, ниже на леднике лужи, залив освободился от льда, хотя время от времени остатки льда вырываются из укромных бухт и ветер выносит их в море.
Спустя сутки к нам присоединился Михалев. Его появление у нас совпало с усилением ветра — он совсем озверел, и нам пришлось перенести палатку и поставить ее ниже по склону, причем на искусственной террасе. Новое место приглянулось, кажется, Володе. «Вид на море — это прекрасно!» — изрек он под рев ветра и забрался в спальный мешок. Он прибыл кстати. После сна со свежими силами мы «сомкнули» снегосъемки, выполненные здесь, с теми, что ранее были произведены в нижней части ледника. Мы расценили это как большой успех: программа первоначального этапа выполнена, осталось кое-что доделать, правда, не самое приятное, например бурение.
Прилетел вертолет и увез нашего научного руководителя для переговоров с одной из иностранных экспедиций — с обещанием вернуть шестого. Отъезд Троицкого, когда нам и без того физически трудно, а тут еще свирепый ветер, будто желавший во что бы то ни стало выжить нас отсюда, мы восприняли как удар судьбы. На комментарии в крепких выражениях недостатка не было. В конце концов решили: действовать, как было намечено ранее...
На бурение мы отправились с отчаянной решимостью. Но, несмотря на «усиленное» питание (содержимое кастрюли на троих досталось двоим), выдохлись и сдались на четырнадцати метрах... Наградой за наши муки были интересные данные, полученные Володей. Оказалось, что картина температурного режима в этой скважине иная, чем на той — нижней.
После окончания бурения сделали попытку пробиться к своим на плато Ломоносова, но нарвались на «мордотык» со скоростью порядка тридцати метров в секунду (то есть практически за пределами шкалы Бофорта) и снова вернулись к нашей палатке... Дальнейшие события объясняет записка, оставленная нами в гурии[4] на случай прилета вертолета: «Уважаемый Леонид Сергеевич! Пробурена 14-метровая скважина — на большее нас не хватило, сделали все, что могли. Так как мы не уверены в погоде 6.07.65, то решили идти на нижний створ. Наш путь следования: Эккокнаусан, далее по продольному створу на июльскую термометрическую скважину с выходом на правую морену против горы Де Геера...» и т. д.
Весь день 6 июля мы провели вблизи палатки у подножия горы Де Геера в несбывшейся надежде увидеть или услышать долгожданный вертолет с Леонидом Сергеевичем на борту. Увы, наши ожидания не сбылись... К этому времени мы положили начало еще одному скоростному створу и пришли в себя от впечатлений Эккокнаусана. Последняя ночь у подножия Де Геера была «ночью размышлений и великих решений», причем совет проходил в процессе непрерывного хождения вокруг палатки в сплошном тумане[5]. На совете было обсуждено положение с продуктами, шансы на появление вертолета в ближайшие дни, роль Русанова в арктических исследованиях, «недостатки природы субтропиков по сравнению с природой Арктики» и т. д. Осуществляя принятое решение, рано утром 8 июля мы благополучно прибыли в еще охваченную сном Пирамиду. Удовлетворив любопытство местных обитателей, порядком изумленных нашим появлением, мы поинтересовались о вертолете. «Во всяком случае, не в ближайшее время»,— гласил ответ.
Позднее мы встретились в Пирамиде с Троицким, подвели и первые итоги. Теперь мы можем оценить вещественный баланс ледника Норденшельда, если получим данные о расходе льда в течение лета. Если нет, то все, что мы имеем, можно будет выбросить в «ближайшую урну». Так же обстоит дело и по многим другим разделам программы. Оснований успокаиваться на достигнутом у нас не было. Главным для экспедиции становилось завершение наблюдения на плато Ломоносова и леднике Норденшельда.
Зингеру и Маркину на ледниковом плато Ломоносова выпала честь первыми начать свою научную вахту в этом ледяном краю. Вдвоем они оставались весь июль и почти половину августа... Правда, им не пришлось выкладываться на износ в маршрутах, как нам, но, по-моему, легче им не было: повседневная монотонность, однообразие при выполнении рутинных наблюдений, а без них не обойтись... Это, пожалуй, хуже физической усталости. Радио в таких ситуациях, конечно, не заменяет живого повседневного контакта с людьми. Кроме того, отсутствие третьего человека на стационаре затрудняло выполнение важнейшего раздела научной программы стационара — проходки глубокого шурфа в фирново-ледяной толще.
Хотя КАПШ гарантировал относительно сносные условия существования и защищал первожителей плато от непогоды, Арктика обращалась с ними сурово, о чем свидетельствуют сухие строки научного отчета: «В июле отмечено 3 полностью ясных дня, 16 полностью пасмурных и 23 дня с туманом.... В июле средняя суточная температура воздуха только 6 раз поднималась выше нуля, оказавшись в среднем отрицательной (—1,5°) ...Скорость ветра в среднем за июль на высоте 1 метра была равна 4,5 м/с. Трижды за время наблюдений ветер достигал ураганной силы».
По описанию Зингера, в такие моменты «казалось, что КАПШ вот-вот покинет своих постояльцев и бросится наутек. Тонкие стенки надувались и приподнимались, деревянные полудуги-стрингера, на которых держался палаточный шатер, трещали и стонали. Печные железные трубы предпринимали не одну попытку сорваться с места, но крепко притянутые проволокой к специальным креплениям, лишь понапрасну осатанело колотились о печку и крышу. Ветер непрерывно хлестал по брезенту миллиардами снежинок, несшихся с ураганной скоростью. Можно было подумать, что метель забивает в КАПШ гвозди».