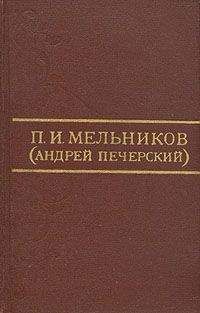Павел Мельников-Печерский - Очерк жизни и творчества
Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на мысль о «смелости небывалой».
«Старые годы» написаны в иной тональности, чем рассказы Мельникова о чиновниках. Там господствует иронический тон, здесь — саркастический. Большая часть мельниковских чиновников — мелкая сошка, над которой в те годы потешались и на которую хотели свалить все беды и неустройства даже самые закоренелые ретрограды. Мельников обличал не столько их самих, сколько бюрократическую систему в целом. Князь Заборовский как личность — тоже совершеннейшее ничтожество, но в его руках сосредоточена огромная, самостоятельная, в сущности, почти неограниченная власть. В его карьере, в его привычках и желаниях, во всей его бесчеловечно-жестокой и чудовищно-бессмысленной жизни воплотилась норма дворянского бытия — от царских палат до мелкопоместной усадьбы. Князь Алексей Юрьевич был заметной фигурой при дворе. Там он прошел великолепную школу и тирании и холуйства. В своем Заборье он просто установил обычаи и нравы, господствовавшие при дворе. Потому-то главным образом все местные дворяне в этих обычаях и не видели ничего преступного. Мелко- и среднепоместные поспешили определиться в приживальщики со всеми «приличными» этому званию преимуществами и обязанностями, а губернатор и предводитель дворянства почитали за честь быть приглашенными к княжескому столу. Для них Заборовский — образцовый барин; любой из окружающего его «шляхетства» поступал бы в точности так же, если бы имел такое богатство и такие связи. Поэтому преступления князя Заборовского не исключение; они прямое следствие того положения, которое занимали русские дворяне в обществе.
Для Мельникова самые разговоры о цивилизаторской и просветительной миссии русского дворянства были отвратительны. Заборовские могли только угнетать народ и развращать его. Стоит только вспомнить омерзительную фигуру Прокофьича.
Необычайный успех «Старых годов» в демократической читательской среде свидетельствовал о том, что повесть была воспринята как злободневно-полемическое произведение, и само ее заглавие воспринималось как саркастическое. Разве в середине XIX столетия дворянская масса — от придворной камарильи до мелкопоместных обывателей — чем-нибудь существенным отличалась от Заборовских? Честь? Человеческое достоинство? Но как могут воплотиться эти свойства личности в среде, в которой богатство и власть добываются холуйством, где «высшие» безнаказанны, а «низшие» беззащитны? Знания? Культура? Но холуйство ведь приносило не в пример больший успех. Мельников отрицал все продворянские легенды.
В «Старых годах» Мельников высказал, в сущности, все, что он думал о русском дворянстве. В других его произведениях о дворянской жизни только развивались и в чем-то дополнялись идеи, впервые высказанные в этой повести. «Бабушкины россказни», например, — это нечто вроде варианта «Старых годов», исполненного в обычной для Мельникова иронической манере. Здесь простодушие Печерского снова вступает в свои права. Но сила обличения от этого вовсе не ослабевает.
Прасковья Петровна Печерская, хоть и не очень богатая дворянка, была, однако, своим человеком и в верхнем губернском и в придворном кругах, а ее мораль, ее взгляды на жизненные ценности ничем не отличаются от взглядов темного княжеского холопа Прокофьича.
8
Есть в «Бабушкиных россказнях» как будто бы проходной, но на самом деле весьма многозначительный диалог о «бесподобном» французском короле — Людовике XVI, который всегда с таким глубоким уважением и с такой почтительностью говорил о Екатерине II и которого «tue» на эшафоте. Конечно же, Мельников смотрел на это историческое событие иначе, чем бабушка Андрея Печерского, и напомнил он о нем неспроста. Общественная борьба, развернувшаяся в те годы в России, могла, по его убеждению, привести к тем же, что и во Франции конца XVIII века, последствиям, если единомышленники бабушки будут упорствовать в защите своих привилегий.
В 50–60 годах с наибольшей силой и резкостью обнаружилась противоречивость мировоззрения Мельникова, его сильные стороны и его ограниченность. Еще задолго до 1855 года он понял эфемерность своей веры в просветительскую миссию Николая I. Но и после этого он не перестал быть мирным просветителем. Он был убежден в необходимости и неизбежности переустройства общественных порядков в России. Однако, кроме правительства, он не видел в России иной силы, которая могла бы возглавить и осуществить дело такого переустройства.
Слабость этой позиции временами ощущалась и самим Мельниковым. Крупный министерский чиновник, он хорошо знал, каково тогда было русское правительство. Самые влиятельные посты занимали коноводы крепостнической партии — все эти Орловы, Панины, Муравьевы, Долгорукие, каждый из которых, по словам Мельникова, был «пропитан помещичьим духом с ног до головы».
И снова надежды возлагались на царя. Но эти надежды были шаткими. «Темная партия сетьми опутывает государя. Доброго что-то не предвещает настоящее»,[14] — писал Мельников в своем дневнике за 1858 год. Для его тогдашних настроений чрезвычайно характерна дневниковая запись от 22 марта 1858 года: «…Встретился с Сергеем Васильевичем Шереметьевым и ходил с ним по Невскому и по Литейной более двух часов… Он, разумеется, против освобождения… Шереметьев сказал, между прочим, что еще будут перемены в этом деле, но какие, не говорил. Он в связях и родстве с великими мира сего и, конечно, говорит не без основания. Что же это будет? Народу обещали свободу, назначили срок и правила; народ ждет; везде тихо, спокойно, несравненно спокойнее, чем прежде, и вдруг, если Шереметьев правду говорит, пойдет дело в оттяжку. Таких дел откладывать нельзя, а то, чего доброго, и за топоры примутся».[15]
Хотя Мельников никогда не считал себя единомышленником либералов 50-60-х годов, его позиция в общественной борьбе того времени в главном и существенном совпадала с их позицией. Его сочувствие закрепощенному крестьянству было вполне искренним, но возможность освобождения народа от помещичье-чиновнического гнета «снизу», то есть силами самого народа, страшила его больше, чем козни крепостников. В период революционной ситуации 1859–1861 годов, когда возмущенные крестьяне все чаще и чаще принимались за топоры, когда борьба революционных демократов становилась все более решительной, Мельников при всей его ненависти к «помещичьему духу» оказался в лагере реакции.
Однако было бы ошибочно думать, что Мельников теперь начисто отказался от своих просветительских убеждений. Они неизбежно прорывались в его действиях и поступках. И это хорошо понимали вчерашние его противники: ревностные охранители самодержавно-крепостнического режима не могли забыть и простить рассказов и повестей Печерского и не считали Мельникова «своим человеком». Да он и сам в эти годы был далек от уверенности в правоте своей общественной позиции. Только этим и можно объяснить новое третье молчание Мельникова-беллетриста, на этот раз продолжавшееся около восьми лет (1860–1868 гг.).